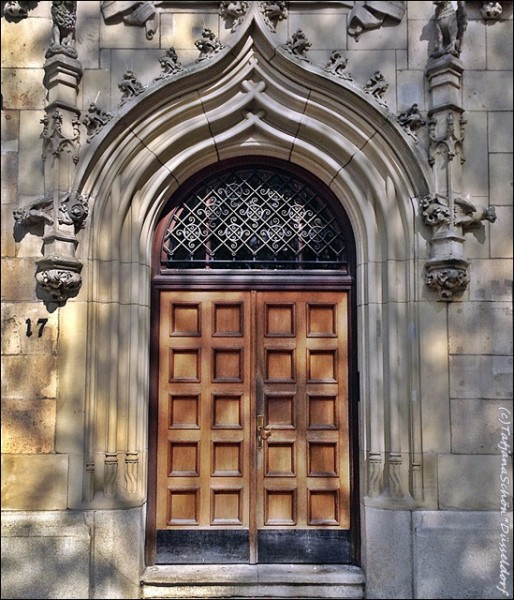Старые энциклопедии красиво пишут о старинной архитектуре.
/Интересно написаны - интереснее любого туристического справочника, использованы милейшие и немного устаревшие слова, но они "честнее", так как взгляд авторов старых статей "незамылен" и восторженно-искренен.
Конечно, надо учитывать, что не все данные сохранили актуальность. Что-то уничтожено войной, что-то переставили, перемеряли, восстановили...
Пишут вот что о Кёльнском соборе в статье (которую многие просто списывают, забывая от восторга указать авторство* и время написания - стык 19-20 веков) уважаемых мной энциклопедистов Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона:
Кёльнский собор — величественнейший и громаднейший из памятников готического зодчества в Германии. Он был заложен при архиепископе Конраде фон Гохстедене, в 1248 г., по плану «каменных дел мастера» Гергарда фон Риле, на месте существовавшего с IX столетия и сгоревшего в упомянутом году старого собора во имя св. ап. Петра. Постройка началась с хоровой части, но подвигалась вперед очень медленно, так что эта часть получила нынешний свой вид и была освящена только в 1322 г. После этого прежний, продольный корпус был снесен, и приступлено в 1347 г. к возведению нового, а также двух башен по краям зап. фасада, причем первоначальный план храма подвергся некоторому изменению, как о том можно заключить из того, что сравнительно небольшая длина продольного корпуса не соответствует обширным размерам хора и трансепта, а нижние ярусы башен наполовину закрывают крайние западные окна продольного корпуса. Лишь в 1437 г. южная башня поднялась от земли настолько, что можно было повесить на ней колокола. С тех пор ее дальнейшая кладка была совершенно оставлена, и на верхней платформе этой башни в течение четырех веков (до 1868) торчал огромный журавль, служивший для поднимания на нее строительных материалов — печальный признак города, видимый издали подъезжавшими к нему. В XVI стол. продольный корпус был отстроен, по крайней мере до такой степени, что в окна его северного нефа вставили знаменитые расписные стекла. Затем всякие работы по собору прекратились, и неоконченное здание стояло многие годы в виде мрачных, запущенных развалин, которые в 1794 г., во время занятия Кельна французами, были даже обращены в склад сена.
Когда в начале текущего столетия пробудилось у немцев национальное сознание и вследствие того усилилось уважение к отечественной старине, заброшенное исполинское сооружение наконец обратило на себя внимание просвещенных людей и явилась мысль о его довершении, на которую в особенности навели бр. Буассери. Мысль эта сначала казалась чересчур смелой, неосуществимой. Представлялось неотложным по крайней мере предохранить собор от окончательного разрушения и исправить уже существовавшие его части. Король прусский Фридрих-Вильгельм III в 1821 г. ассигновал на эту реставрацию особые денежные средства и возложил ее производство на архитектора Алерта, по смерти которого в 1833 г. заведование ею перешло к Эрнсту Цвирнеру. Этот последний по восшествии на прусский престол короля Фридриха-Вильгельма IV (в 1840 г.) сумел заинтересовать последнего проектом полной достройки собора и склонил его взять под свое покровительство основанное в 1842 г. общество содействия этому предприятию. Торжественная закладка достройки происходила 4 сентября 1842 г. С тех пор работы пошли столь быстро, что в 1848 г., при праздновании 600-летней годовщины основания собора, можно было освятить его южный боковой неф. На место умершего в 1861 г. Цвирнера строителем был назначен Рихард Фойгтель. Через два года он окончил отделку внутренности храма и предоставил его богослужению, после чего дальнейшие работы обратились исключительно на пластические украшения внешности здания, в особенности его роскошного южного портала, и на отделку двух колоссальных башен с их порталами. Они приняли вид, согласный со старыми оригинальными чертежами, найденными в 1814 г. Моллером в Дармштадте, и, будучи увенчаны крестоцветными флеронами, достигли каждая до 156 м вышины. Довершение многовековой постройки праздновалось 15 октября 1880 г.
По своему расположению К. собор имеет значительное сродство с французскими готическими храмами и больше всего походит на Амьенский собор, хотя несколько проще его. Он представляет в плане латинский крест с округленным верхом. Продольный корпус, состоящий из пяти нефов, пересекается трехнефным трансептом, сильно выступающим своими концами из общего плана, и по переходе за трансепт образует своим средним нефом продолговатый хор, между тем как боковые нефы закругляются позади хора и образуют круговой обход с венцом семи капелл.
Длина всего здания снаружи — 135,6 м; ширина — 61 м, а в трансепте — 86,25 м. Площадь, занимаемая внутренностью собора, равняется 6166 кв. м, так что в отношении ее величины К. собор уступает только соборам св. Софии в Константинополе, св. Павла в Лондоне, Миланскому и св. Петра в Риме. Во всем расположении собора видна большая ритмичность, а в его конструктивной системе строгая последовательность. Вышина здания от земли до начала крыши — 46 м, а до ее гребня — 61,5 м. Над тем местом, где продольный корпус перекрещивается с трансептом (над так назыв. Vierung), высится центральная башня с сквозной остропирамидальной вершиной, поднимающеюся на 109,8 м от земли. Две другие башни (колокольни), также остроконечные и пирамидальной формы, стоящие по краям западного фасада, тянутся вверх словно исполинские окаменелые хвойные деревья, ростом в 156 м каждое. Это — самые высокие церковные башни в целой Европе.
Колоссальная масса здания убрана снаружи множеством опорных пилястр, аркбутанов, фиалов, башенок, вимпергов, горгулий, галерей, сквозных решеток и пр. При входе чрез западный главный портал, богато украшенный скульптурной работой, но, к сожалению, слишком узкий, внутренность собора благодаря простоте сводов продольного корпуса производит впечатление величественности, которое тем более усиливается, чем ближе подходишь к высокому, стремящемуся к небесам хоровому пространству и видишь идущий вокруг храма пояс красивого трифория и верхних окон. Как все большие и маленькие стрельчатые дуги потолочных сводов, арки между столбами и оконные пролеты построены по схеме равностороннего треугольника, так точно и отношения размеров в прочих частях сооружения подчинены этой форме, вследствие чего повсюду видна удивительная ритмичность и гармоничность конструктивного целого.
Из множества всякого рода художественных достопримечательностей, находящихся в соборе, особенно любопытны: скульптурно орнаментованная рака трех волхвов в средней из семи капелл кругового обхода позади хора — драгоценное произведение романского золотых дел мастерства, исполненное в 1190—1200 гг.; гробница архиепископа Филиппа ф. Гейнсберга (XIV ст.); статуи Христа, Богородицы и 12-ти апостолов на четырнадцати столбах, окружающих хор (сред. XIV ст.), великолепный образ работы Вильгельма Кельнского над алтарем св. Клары (сцены земной жизни Спасителя), знаменитый складень Стефана Лохнера в капелле св. Агнесы (в середине — «Поклонение волхвов», на створках — «св. Гереон» и «св. Урсула») и стенная картина Овербека «Взятие Богородицы на небо» в восточном конце крайнего южного нефа.
Расписные стекла, вставленные в громадные окна, пропускают в собор мягкий, волшебный свет, играющий на его столах и стенах разными оттенками, меняющимися с часами дня. Эти стекла принадлежат разному времени: находящиеся в окнах хора изготовлены приблизительно в 1320 г.; стекла северного бокового нефа относятся к началу XVI ст.; в южном боковом нефе они новейшей работы и исполнены I. Фишером и Гелльвегером по рисункам Г. Гесса; в северном и южных концах трансепта они происходят по большей части из старинных церквей; наконец, огромное среднее окно в южном портале — произведение любекского мастера Мильда, принесенное собору в дар германским имп. Фридрихом в 1878 г.
Крайне любопытны также скульптурные украшения, обильно рассеянные на трех порталах западного фасада и на особенно роскошном портале южного. Соборная ризница заключает в себе массу предметов церковной утвари, дорогих по материалу или важных в художественно-историческом отношении, каковы средневековые золотые и серебряные сосуды, мостранцы, реликварии и т. п.
----
*Интересно об авторе статьи? Андре́й Ива́нович Со́мов (1830-1909) — русский искусствовед и музейный деятель. Сначала преподавал математику в частных домах и пансионе Г. Эмме и физику в Горном институте, а в 1858—1859 — в офицерских классах Морского кадетского корпуса. Почётный вольный общник Императорской Академии художеств с 1871 года, редактор «Вестника изящных искусств». Был старшим хранителем Эрмитажа (с 1886 года) и членом-учредителем Общества русских аквафортистов. С 1891 года был сотрудником в издании Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, редактировал в нём отдел изящных искусств. Умер в результате несчастного случая — через некоторое время после наезда экипажа на Дворцовой площади у Эрмитажа.