"Французский" Гейне - 1830-е годы
/Что надо знать о Гейне и 19-ом веке ещё, чтобы понять историю Германии и Европы в целом.
Read MoreВ этом журнале собрана интересная и полезная для туристов информация о жизни в Дюссельдорфе: про музеи и памятники, билеты и транспорт, отели и рестораны и многое другое.
Что надо знать о Гейне и 19-ом веке ещё, чтобы понять историю Германии и Европы в целом.
Read MoreРазглядим крыши. Или памятники. Когда вы видите зелёные крыши - знайте, это медь.
Read MoreВ середине мая я была в Вене. Я многое прочитала, просмотрела перед поездкой (Информация из путеводителя на русском и ещё одной книги (онлайн), у меня был ещё один очень практичный "маршрутник" - книга на немецком - в бумажном виде и с вариантом в планшете - ими я и пользовалась на месте) и успела увидеть из музейного самое главное - оригинал тех драгоценностей, о которых всегда рассказываю на экскурсиях в Аахене.
Read MoreС грустью расставался Нестор Васильевич Кукольник с Дюссельдорфом, написав в своих путевых «Записках…»: «…такой художественный оазис заслуживал бы большего внимания, но у меня не было времени, а жаль». Хорошо понимая разницу между ознакомительной экскурсией и профессиональным изучением особенностей местной живописной школы, Кукольник подвёл итог: «Все это любопытно, но неразрешимо без свиданий и разговоров с достойными художниками, а я в Дюссельдорф едва ли ещё попаду. Крайне жаль».
Read MoreРоберт Шуман: «…во мне все большее желание отправиться в Дюссельдорф...
Еще одно: недавно я искал в старой географии сведения о Дюссельдорфе и нашел упомянутыми среди достопримечательностей три женских монастыря и дом для умалишенных. Первые мне, пожалуй, по душе, но читать о последнем было прямо-таки неприятно...».
Что это я? Читаю-записываю. Какое отношение это имеет к Дюссельдорфу? В Дюссельдорфе много каштанов (взять, хотя бы Кёнигсаллее), есть "Пале Нессельроде" (там теперь музей керамики), а в конце мая трагично погиб старый каштан у стен этого здания. И, в целом, род Нессельроде - здешний (см. комментарий под заметкой).
Read MoreДело всё в индустриализации. Что популярно о ней рассказывает специалист-историк Дмитрий Бовыкин (кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова):
"В первую очередь промышленная революция распространяется на те страны, где её основой смогла стать, как и в Англии, более высокая интенсивность труда по сравнению со всем остальным миром — не случайно один из историков назовет промышленную революцию «трудолюбивой революцией».
Ход промышленной революции имел в различных странах множество общих черт. Как правило, ей предшествовал значительный рост населения, нередко его сопровождал приток денег в аграрный сектор экономики и его радикальная перестройка, так или иначе решалась проблема поиска капиталов и источников энергии. Везде развитие промышленности сопровождалось строительством новых путей сообщения, в том числе и железных дорог — в 1820–1830-х годах они появляются во Франции, Бельгии, Германии, США, Королевстве обеих Сицилий и Российской империи. Во множестве стран возникают платные дороги, по рекам начинают плавать пароходы.
Интересно, что у соседей приключилось (первыми дюссельдорфскими промышленниками стали бельгийцы):
"Первой последовала примеру Англии Валлония, что сделало Бельгию одной из крупнейших индустриальных держав мира, она входила в группу мировых лидеров вплоть до последней четверти XIX века. В начале XIX века промышленная революция приходит в США, ощутимо позднее, в 1830–1860-х годах, она происходит во Франции. Там она совершалась с опорой на текстильную и металлургическую промышленность, а государство внесло немалый вклад в строительство транспортной инфраструктуры. Еще позже, примерно в середине XIX века, вступают в промышленную революцию германские государства, однако к концу столетия объединенная Германия оказывается в числе лидеров.
Изобретения, сделанные в этих странах, также быстро становились известны по всей Европе и за океаном:
Особенность XIX века, по сравнению с предшествующими столетиями, — быстрое внедрение в жизнь различных технических новшеств. Во второй половине XIX века создается первый двигатель внутреннего сгорания, «Отцами» современного автомобиля считаются немецкие конструкторы Даймлер и Бенц. Во второй половине XIX в. многочисленные технические новшества становились все более доступными, затрагивая все сферы жизни: использование в быту газа, электричества, телефона стало обыденным явлением. В Дюссельдорфе появилось множество газовых фонарей!
"Промышленные революции в развитых странах имели, безусловно, немало особенностей. Так, в Бельгии переворот опирался прежде всего на железную руду и уголь, а также на давние традиции текстильного производства и имел немало сходства с английской моделью. При описании процессов, протекавших в Германии, более поздний старт обычно объясняется раздробленностью страны, но одновременно отмечается, что Германия была богата природными ресурсами, располагала капиталами и обладала такой системой образования, которая позволила быстро и практически с нуля подготовить множество квалифицированных кадров и добиться превосходства в новых отраслях промышленности: электротехнической и особенно химической. ..."
Итак, достижения науки и техники. В это время были сделаны крупнейшие научные открытия, которые привели к пересмотру прежних представлений об окружающем мире, получив наименование революции в естествознании. Значительные успехи были достигнуты в таких науках, как физика, благодаря открытию Джоулем (Англия) и Р. Майером (Германия) закона сохранения энергии, а также исследованиям Ома и Фарадея в области электричества; химия, где были углублены и расширены основы теории атомного строения вещества, биология, в рамках которой английский ученый Дарвин разработал свою революционную концепцию происхождения биологических видов путём естественного отбора. Достижения биологических наук дали мощный толчок развитию медицины. Европейскими учеными разрабатывались вакцины против болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Шотландский профессор Листер ввёл в хирургическую практику антисептику, а Д.Симпсон — обезболивающие средства. Крупнейшим достижением явилось открытие в 1895 г. немецким ученым Рёнтгеном «лучей икс», благодаря которым достигаются значительные успехи в области диагностики и хирургии.
Результатом этих и других изобретений стало резкое сокращение смертности, прекращение глобальных эпидемий, увеличение средней продолжительности жизни европейцев.
Литература и искусство. Начало XIX века: неоклассицизм и романтизм. Разочарование в рационализме и прогрессе; страх перед индустриализацией, коренным образом менявшей привычный уклад жизни, привели к стремлению уйти от реальности к поиску несуществующего идеала и повышенному интересу к далёкому прошлому. В Дюссельдорфе заслуживает всемирное признание школа живописи, которую принято называть "дюссельдорфской". В прозаической литературе течение романтизма нашло отражение в жанре исторического романа, произведениях таких авторов, как В. Скотт, Т. Карлейль, Ж. Санд, В. Гюго.
Романтизм проникает также в архитектуру, что способствовало распространению в Европе в первой половине XIX века неоготического стиля. С середины XIX в. значительные изменения претерпевает архитектура, где начинают широко применяться новые материалы, прежде всего железо и сталь. В 30 — 40-е годы намечается отход от классицизма и неоготики — происходит симбиоз различных стилей предшествующих эпох. Создаются роскошные здания с пышными нагромождениями лепных и скульптурных украшений, преобладанием неровных линий и поверхностей. Этот "псевдостиль, демонстрировавший эклектичные художественные вкусы богатевшей буржуазии", был великолепен и пышен, но не отличался величием и изяществом. Его в Германии называют историзмом.
В конце XIX в. в архитектуру проникают последние достижения технической мысли: в конце 80-ых гг. в Париже была построена грандиозная стальная Эйфелева башня; в США начинают сооружаться небоскрёбы.
"В XIX веке искусство становится демократичным, перестает быть "развлечением для избранных", так как рост всеобщей грамотности приводит к тому, что с новейшими произведениями писателей, поэтов, драматургов знакомятся "простые люди"; открываются многочисленные публичные музеи, галереи, выставки.
Электричество позволило строить фабрики и заводы за чертой города, что изменило облик городов, оно стало использоваться для освещения помещений, улиц (дуговое освещение, лампа накаливания), на транспорте (трамвай) и в быту.
Дело дошло до увеличения числа жителей городов, где меняется вся повседневная жизнь людей: продукты питания со временем начинают изготовляться на заводах, одежда и обувь в основном перестают шить по индивидуальным заказам, появляются стандартные и взаимозаменяемые детали, в строительстве мостов и кораблей на смену дереву приходит металл, земной шар становится таким маленьким, что его можно обогнуть за восемьдесят дней.
Возникает профсоюзное движение, социалистические и рабочие организации — таким образом, в основе многих социальных потрясений XIX — начала XX века лежит также промышленная революция.
Появляется и средний класс - владельцы небольших фабрик, управленцы, новые профессиональные слои, такие как, к примеру, инженеры. После промышленной революции о нём можно говорить как об отдельном социальном слое со своей этикой и жизненной философией.
Меняются условия труда: взаимозависимость людей внутри одного коллектива заставляет насаждать жесткую дисциплину, ставить одних работников под присмотр других, запрещать отвлекаться от работы или опаздывать на неё. Дом и работа, рабочее время и часы досуга оказываются четко разделены. На рубеже 1770–1780-х годов в Европе открываются первые детские сады, а в XIX веке и ясли".
Почёрпнуто из статьи упомянутого выше автора.
Ещё: Городской транспорт первой половины XIX века - Филолог Вера Мильчина о личном транспорте в Париже в 30-е годы, организации общественных маршрутов и первом городском поезде.
И появляется возможность путешествий "в своё удовольствие"!
"...возила их на увлекательные экскурсии в Дюссельдорф и Ахен. А в соседнем городе Мюнхенгладбах они уже знали каждую улочку и такие интересные места, как театр, музей, пожарное депо, вокзал и городской рынок с его множеством небольших магазинчиков, где всегда находилось много чудесных и полезных вещичек".
Это о семейном досуге одного здешнего мальчика Хуго. Хуго Юнкерс, тот, который изобретатель и "отец" немецкого (и мирового тоже) самолётостроения. Родился тут неподалёку (в Райдте, теперь это часть города Мёнхенгладбах) в 19 веке... История о самолётах очень поучительная, но я про молодость этого неординарного человека.
Цитирую из "Неизвестного Юнкерса" Леонида Липмановича Анцелиовича - рекомендую, очень интересно.
Глава 2 - Как становятся гениями
На самом западе Германии и ее земли Северный Рейн – Вестфалия между Дюссельдорфом и Ахеном, всего в нескольких километрах южнее городка Мюнхенгладбах находилась маленькая деревушка Райдт, где с XVI века жили Юнкерсы и занимались сельским хозяйством на обширных просторах левобережья могучего Рейна. Но уже в 1818 году дед Хуго Юнкерса построил здесь текстильную фабрику. Отец Хуго ее расширил и усовершенствовал. Генрих Юнкерс уже был настоящим фабрикантом, к текстильной фабрике он прикупил кирпичный заводик, а деревня Райдт превратилась в благоустроенный город с трехэтажными домами. Генрих унаследовал семейный бизнес после кончины его отца и за два года много преуспел. Теперь ему 32, он любит Луизу Вирхаус и решает, что может на ней жениться. Ей уже 28, и она любит Генриха, а все считают его завидным женихом. Молодые обоюдно хотят иметь много детей. Бракосочетание состоялось 21 мая 1855 года.
Генрих Юнкерс целыми днями пропадал на работе, ездил закупать сырье и новое оборудование. Часто уезжал на ярмарки и сам организовывал сбыт своей продукции. И дело шло. Текстильная фабрика расширялась, строились новые корпуса, росло качество тканей, объем их выпуска и ассортимент.
Все заботы о доме и организации быта легли на молодую хозяйку Луизу Юнкерс. ...Их третий мальчишка родился 3 февраля 1859 года в красивом трехэтажном доме города Райдт, где обосновалась семья преуспевающего текстильного фабриканта. Малыша назвали Хуго, а его старшим братьям Максу и Карлу было три и два года. После Хуго Юнкерса на свет появились еще четыре брата и сестра, которая вскоре после рождения заразилась гриппом и умерла.
...Луиза Юнкерс создала мальчишкам идеальные условия для физического и духовного развития. Она возила их на увлекательные экскурсии в Дюссельдорф и Ахен. А в соседнем городе Мюнхенгладбах они уже знали каждую улочку и такие интересные места, как театр, музей, пожарное депо, вокзал и городской рынок с его множеством небольших магазинчиков, где всегда находилось много чудесных и полезных вещичек.
...
Младшему брату Алексу было всего четыре годика, когда в большой и дружной семье фабриканта Юнкерса произошла катастрофа. На сорок третьем году жизни, 24 сентября 1869 года, цветущая и жизнерадостная Луиза неожиданно скончалась после непродолжительной болезни, вызванной какой-то загадочной инфекцией. Генрих, скрывая от детей слезы, душившие его, пытался объяснить им фатальность случившегося. Сорокашестилетний вдовец сделал все, чтобы мальчишки не чувствовали себя осиротевшими. Он во многом заменил им мать. С отцом мальчишкам было интересно. Они стали частыми гостями на его фабриках. А там было столько интересного! Паровые машины крутили длинные валы под потолком. От этих валов вниз спускались бесконечные приводные ремни и крутили прядильные станки. На кирпичной фабрике их воображение поразила громадная механизированная печь для обжига кирпича. Теперь они сообща обсуждали с отцом достоинства и недостатки нового оборудования для текстильного и кирпичного производств, которое предлагали многочисленные коммивояжеры и которое было красочно и подробно описано в оставляемых ими проспектах.
Книг в их доме было много всегда. Покойная Луиза и Генрих книги уважали, покупали все новинки, обсуждали их, и сами могли за полночь заснуть за раскрытым романом. Чтение малышам сказок перед сном было традицией. А когда старшие подрастали, домашняя библиотека уже была ими прочитана, и они с азартом и волнением принимались искать сокровища в публичной библиотеке их города. Научная фантастика и приключения особенно захватывали Хуго. Читать он очень любил и посещал городскую библиотеку чаще своих братьев. Интерес к технике был культом сыновей фабриканта. Да и сам он не был равнодушен к техническому прогрессу. Незабываемым событием для мальчиков было путешествие с отцом на пароходе по Рейну. Каких только кораблей, буксиров, барж, яхт, катеров и лодок они не рассмотрели с особым пристрастием, не говоря уже о пароходе, на котором плыли. Во время остановок их пассажирского лайнера в крупных городах они с отцом гуляли и посещали достопримечательности. И тут, помимо шедевров городской и дворцовой архитектуры, их особо интересовали с треском проезжавшие и стоявшие у тротуаров автомобили различных конструкций. Опять следовала дискуссия о достоинствах этой модели, и отец всегда был арбитром.
Школа, в которой учился Хуго и его братья, была семилетней. Он закончил ее через год после второй женитьбы отца, и надо было думать, куда идти учиться дальше. Техника все больше увлекала, и он обнаруживает, что хочет стать инженером. Тогда надо поступать в реальное училище, а не в гимназию. В пятнадцать лет нелегко уехать из родного дома и городка ради своей мечты, оставить своих друзей и близких, но Хуго твердо решил поступать в реальное училище города Бармена, что в 50 км восточнее родного Райдта.
... Хуго не набрал достаточного числа баллов по всем трем предметам, и ему порекомендовали получше подготовиться и попытать счастья в следующем году. Для юноши это был страшный удар. Он был уверен в своих знаниях, был лучшим в классе, все его обычно хвалили. А тут такие сложные задачи и вопросы, особенно по физике и химии. Что же делать? Отец его не ругал и не винил, старался проанализировать причину неудачи. Они вернулись домой с большой стопкой учебников по математике, физике и химии для студентов реальных училищ и университетов.
Через год Хуго Юнкерс блестяще сдал вступительные экзамены и был зачислен студентом реального училища в городе Бармен. Отец снял для него комнату у симпатичной хозяйки неподалеку от училища. В шестнадцать лет Хуго Юнкерс начал самостоятельную жизнь вдали от родных. Но теперь он четко усвоил сигнал, который преподнесла ему жизнь, – если хочешь добиться цели, твои знания должны быть выше общепринятой нормы.
Хуго очень прилежно учился, но был общительным, завел себе новых друзей из числа самых умных и успешных студентов и не отказывался от совместных походов по живописным окрестностям и посещений вечеров с танцами в женской гимназии. Теперь он не только учился по рекомендованным учебникам, но и прорабатывал соответствующие разделы по учебникам для университетов и высших технических училищ. Он все время помнил, что обязан хорошо подготовить себя для поступления в университет. Через три года, в начале лета 1878 года Хуго Юнкерс получил аттестат о среднем образовании. Теперь перед ним была открыта дверь в мир высших учебных заведений.
Все лето Хуго провел дома с родными в бесконечных обсуждениях, куда ему поступать. В августе созрело окончательное решение – Технический университет Берлина. Берлин был в семистах километрах на востоке, но это был главный промышленный город и центр не только германской, но и мировой научной мысли. А его Технический университет собрал лучших профессоров и проводил обширную программу исследований в различных областях новейшей техники. ...

Девятнадцатилетний Хуго Юнкерс стоит перед величественным зданием главного корпуса университета, куда он собирается поступить. Оно потрясает его своей красотой, гармонией и шиком. Это настоящий дворец науки и техники. Таких замечательных зданий он никогда еще не видел, и мысль, что оно может принадлежать и ему на целых пять лет, кружила голову...
Теперь, когда Хуго ходил на лекции знаменитых профессоров, он мог по достоинству оценить все великолепие и уникальность внутренних интерьеров залов и аудиторий университета. Больше всего поражало величие главного зала. Его потолком служил огромный застекленный квадратный купол, возвышающийся над всем зданием на уровне третьего этажа. Днем от него исходил мягкий успокаивающий свет. Зал с трех сторон обрамляли многоарочные галереи на двух верхних этажах. По ним можно было легко пройти в нужную аудиторию и прогуливаться между лекциями...
...
Хуго Юнкерс в Карлсруэ. Здешний университет образовался из политехнической школы, основанной более полувека назад, и на прикладные науки здесь смотрели как на инструмент для развития промышленности. Модель обучения в Карлсруэ уже послужила основой учебных планов высших технических школ Цюриха, Праги, Вены и Мюнхена. Американцы признавали, что учебный процесс в Массачусетском технологическом институте организован таким же образом...
Эти несколько лет неугомонный студент Хуго Юнкерс будет учиться в третьем высшем техническом учебном заведении и работать. После успешного окончания третьего курса в Берлинском техническом университете Хуго опять потянуло к прикладным наукам. Летом, на каникулах дома в Райдте, он опять заговорил с братьями и отцом о Высшей технической школе в Карлсруэ и необходимости уйти от академизма Берлинского университета. И тут родилась идея: зачем ехать так далеко в Карлсруэ, когда под боком в Ахене есть прекрасная Высшая техническая школа.
Рейнско-Вестфальская королевская политехническая школа открылась всего десять лет назад. Тогда в ней было 32 преподавателя и 223 студента. В Ахене было всего 80 тысяч жителей, но это был уже промышленно развитый город. Тут были суконная фабрика, металлургический комбинат, заводы металлоконструкций, паровых котлов, машинного и железнодорожного оборудования. Теперь это Высшая техническая школа Ахена, качество обучения резко возросло, а число студентов оставалось таким же небольшим.
Юнкерсу без труда удалось записаться сюда на четвертый год обучения. Здесь собрались молодые, очень энергичные профессора, которые постоянно консультировали промышленные компании. По заказам этих компаний они проводили научные исследования в лабораториях. Хуго был счастлив. Он нашел то, к чему стремился. Много работал с технической литературой, его рабочий стол был завален новейшими книгами. Он проводил многие часы в лабораториях, выполняя учебные задания и приобщаясь к реальным научным исследованиям. Пролетел и следующий, пятый год обучения, и в мае 1883 года Хуго Юнкерс получает диплом инженера-механика. Закончилась его неугомонная студенческая пора, хотя учиться новому он будет всю свою жизнь.
Теперь у Хуго было много свободного времени. В родном доме отца он мог спокойно поразмышлять о своем будущем. Ему уже 24, он дипломированный инженер-механик и желанный работник для владельцев сотен компаний, переживавших в Германии промышленный бум. Надо осмотреться, реально оценить ситуацию и тенденции развития техники.
Через неделю праздного безделья отец неожиданно предложил:
– А почему бы тебе, Хуго, раз ты теперь такой грамотный в технике, не поработать некоторое время на наших семейных фабриках и довести их оборудование до современного уровня?
– Это неплохая идея, – сразу согласился сын. Ему все равно было, где начинать работать, а тут можно принести пользу своей семье, и здесь он будет сам себе хозяин.
И действительно, знакомство с агрегатами и технологическим процессом, который они обеспечивали на текстильной фабрике и кирпичном заводе, разработка плана модернизации и закупки новейшего оборудования занимало от силы полдня. Остальное время Хуго использовал, чтобы заглянуть в свое будущее. Он много читал. В газетах, журналах и монографиях отражались дыхание времени и семимильные шаги технического прогресса.
В развитых странах строятся и работают железные дороги. Паровозы и вагоны становятся более надежными, а появление семафоров и механических стрелок обеспечивает высокую безопасность движения поездов. Прогресс в разработке паровых двигателей позволил их успешно применять не только на кораблях и электростанциях, но и для привода станков на заводах. Компания МАN в Германии для тех же целей пока безуспешно разрабатывает большие моторы внутреннего сгорания. Заработал бензиновый четырехтактный двигатель Даймлера, который может работать и на газе. Даже в Петербурге лейтенант военно-морского флота Е.А. Яковлев основал производство керосиновых двигателей небольшой мощности собственной конструкции. И чем больше Хуго вникал в сущность и истоки этого технического переворота, тем яснее вырисовывалась будущая значимость электрического управления всеми процессами и в двигателях, и в любых сложных механических системах.
...Дома родного городка Хуго Юнкерса и фабрики его отца до сих пор еще не имели электрического освещения. Только четыре года назад американец Томас Эдисон создал электрическую лампочку накаливания... Только в позапрошлом году небольшие электросистемы Эдисона зажгли первые лампочки в Лондоне и на Международной выставке в Париже. Но это все были рекламные акции Эдисона, которыми он пытался сказать людям – вот оно ваше будущее, берите и приближайте его.
...Хуго пытался осмыслить все эти сообщения. И подспудное ощущение тревоги все глубже проникало в его сознание, появилось чувство, что он упускает что-то очень важное. Прозрение наступило после Рождества – Хуго Юнкерс решает ехать в Ахен и там, в Высшей технической школе, досконально изучить электротехнику.
 Главный корпус и химическая лаборатория Высшей технической школы в Ахене
Главный корпус и химическая лаборатория Высшей технической школы в Ахене
С января 1884 года он слушает лекции самых выдающихся специалистов в этой новой области человеческих знаний. Почти одновременно Юнкерс получает инженерную работу конструктора-механика в нескольких компаниях Ахена. Конструкторская работа увлекла молодого инженера, да и знакомство с рождающимся миром электричества было настолько интересным, что счастливая жизнь Хуго в Ахене, совсем недалеко от родного Райдта, продлилась целых три с половиной года. Он уже впитал в себя все секреты корифеев электричества Ахена, и ему опять захотелось приобщиться к самому новому в этой области, опять появилось страстное желание быть первым.
Новый поворот в жизни. Благополучная жизнь в Ахене меняется на беспокойную, но обещающую большие дивиденды в будущем. Наш герой едет в Берлин. Здесь, в хорошо ему знакомом Техническом университете, он надеется еще более углубить свои познания самых новейших достижений в электротехнике и в области экономики. Работа по найму в частных компаниях Ахена наглядно показала Юнкерсу, насколько важно хозяину компании разбираться в тонкостях финансового учета, условиях кредитования и контрактной ответственности. ... Чтобы быть первым и в экономике, и в механике, и в электрике, Хуго не жалел ни сил, ни времени.
В хмуром ноябре 1887-го жуткое известие из дома застало его в аудитории экономического факультета – погиб отец. Это случилось у него дома. Он отравился бытовым газом. Кто-то не перекрыл на ночь газовый кран, и невидимый убийца вытекал из негерметичной системы. Спасти отца не удалось. После торжественных похорон, на которые съехались все Юнкерсы, было решено, что в соответствии с заблаговременно составленным завещанием покойного фамильный бизнес – текстильную компанию – возглавит его старший сын Макс. Прошли девять дней скорби, и Хуго возвратился в Берлин, чтобы продолжить штурмовать самые неприступные и сложные бастионы электротехники и экономики.
Когда же он почувствовал себя победителем в этом сражении, произошел новый значимый поворот в его профессиональной ориентации. Ему всегда хотелось быть впереди технического прогресса, и теперь его природная интуиция и те знания, которыми он вооружился, позволили разглядеть особую будущую роль двигателей внутреннего сгорания. Хуго Юнкерс узнает, что еще в 1801 году француз Филипп Лебон запатентовал проект двигателя, потребляющего осветительный газ, но реализовать его не успел. ... В 1867 году на Всемирной выставке в Париже Николас Отто получил Гран-при за двигатель с одним вертикальным цилиндром, кпд которого уже достиг 30 %. Все первые стационарные двигатели имели огромные колеса-маховики, которые вращались зубчатыми рейками. Николас Отто уже в 1876 году создал надежный четырехтактный бензиновый двигатель, и в следующем году их продажа достигла пяти тысяч.
...Готлиб Даймлер и Карл Бенц построили самодвижущиеся повозки и получили на них патенты. В жизни они так и не познакомились. Их фирмы сольются в 1926 году в «Даймлер-Бенц». Поехала «безлошадная повозка» австрийского инженера Зигфрида Маркуса с его одноцилиндровым мотором. Скоро она будет развивать скорость 10 км/ч. Хотя автомобиль еще долго будет оставаться «повозкой» для удовольствия или торжественных выездов, Хуго уже предвидел, что массовое использование автомобилей и других видов транспортных средств будет определяться эффективностью двигателей. Чтобы быть первым, надо посвятить себя разработке именно двигателей... Намеченная программа обучения в Берлине полностью выполнена. Хуго сдает квалификационный экзамен на звание «магистра» и получает очень лестное предложение работы. ...
Так Хуго Юнкерс стал конструктором двигателей внутреннего сгорания в то время, когда они только рождались. Он добился своего, он был среди первых.
Немного бытового. И тёплого.
У этого человека было не одно изобретение, и было "бытовое", положившее начало целому направлению развития теплотехники, оно напрямую связано с отопительными приборами, которые нам и сейчас делают жизнь приятнее. Итак, о чём я: тот немецкий изобретатель, профессор Аахенского университета, доктор Хуго Юнкерс запатентовал в 1892 году разработанный им калориметр для измерения теплотворной способности природного газа, используемого в газовых двигателях (годом позже прибор был удостоен высшей награды на Всемирной выставке в Чикаго). Идея, заложенная в принципе действия калориметра (проточный нагрев воды за счет теплоты, выделяющейся при сгорании природного газа), подтолкнула изобретателя к созданию водонагревателя большей мощности, очень скоро завоевавшего самые прочные позиции на рынке (уже в 1895 году Хуго Юнкерс открывает фабрику Junkers & Co, которая начинает выпускать первые в мире газовые водонагреватели).
Начало коммерческой деятельности новой компании оказалось столь успешным, что привело к созданию целого ряда совершенствуемых моделей: от тяжелых напольных до изящных настенных. Темпы и возможности нового производства стремительно нарастали, к 1904 г. фабрика выпускала уже 19 моделей приборов, в числе которых, кроме водонагревателей, были также охладители и вентиляционное оборудование. Применение автоматики открыло возможность управление подачей газа в зависимости от расхода горячей воды. А налаженное серийное производство сделало проточные водонагреватели доступными практически для любого дома. И по сей день принцип проточного нагрева воды успешно используется в газовых водонагревателях и котлах.
К 1911 году Хуго Юнкерс стал мировым лидером по количеству зарегистрированных изобретений, среди которых весомое место занимали новые способы обработки листового металла. Его талантом и трудами в 1915 году был создан первый в мире цельнометаллический самолет J-1, а позже и первый в мире серийный пассажирский самолет Ju 52. При этом мечтой Юнкерса была гражданская авиация, позволяющая людям быстрее преодолевать расстояния, улучшающая контакты между нациями и снижающая напряженность в мире.
1923 год. В России.
Его имя - в "родословной" Люфтганзы!
6 января 1926 года в Берлине в результате слияния компаний «Deutsche Aero Lloyd» и «Junkers Luftwerker AG» была создано акционерное общество «Deutche LuftHansa AG», а уже с 6 апреля авиакомпания совершала регулярные полеты по восьми маршрутам.
Для изучающих немецкий язык на улицах городов Германии. Занимательная градо-лингвистика. Прикладная наука, топонимика :-)
Привожу список из 50 чаще всего встречающихся в немецких городах названий улиц (с первой десяткой тут, кажется, всё логично, кроме "берёзового лейтмотива" - в Германии множество берёз, но не до такой же степени, чтоб даже больше лип!).
1. Hauptstraße Главная 2. Schulstraße Школьная 3. Gartenstraße Садовая 4. Bahnhofstraße Железнодорожно-вокзальная 5. Dorfstraße Деревенская 6. Bergstraße Горная 7. Birkenweg Березовая дорога 8. Lindenstraße Липовая 9. Kirchstraße Церковная 10. Waldstraße Лесная
11. Ringstraße Кольцевая 12. Schillerstraße Улица Шиллера 13. Goethestraße Улица Гёте 14. Amselweg Дорога чёрного дрозда 15. Jahnstraße Улица Яна 16. Wiesenweg Луговая дорога 17. Buchenweg Буковая дорога 18. Wiesenstraße Луговая 19. Finkenweg Дорога зябликов 20. Ahornweg Кленовая дорога
21. Eichenweg Дубовая 22. Rosenstraße Улица роз 23. Feldstraße Полевая 24. Blumenstraße Цветочная 25. Mühlenweg Мельничная дорога 26. Am Sportplatz На спортивной площадке 27. Erlenweg Ольховая 28. Friedhofstraße Кладбищенская 29. Tannenweg Еловая дорога 30. Mozartstraße Улица Моцарта
31. Brunnenstraße Фонтановая 32. Lindenweg Липовая дорога 33. Bachstraße Улица Баха 34. Raiffeisenstraße Улица Райффайзена 35. Rosenweg Дорога роз 36. Kirchweg Церковная дорога 37. Drosselweg Дорога дроздов 38. Lerchenweg Дорога жаворонков 39. Mühlenstraße Мельничная 40. Talstraße Долинная
41. Industriestraße Промышленная 42. Beethovenstraße Улица Бетховена 43. Mittelstraße Центральная 44. Poststraße Почтовая 45. Meisenweg Дорога Синиц 46. Gartenweg Садовая дорога 47. Breslauer Straße Улица Вроцлова 48. Fliederweg Сиреневая 49. Lessingstraße Улица Лессинга 50. Waldweg Лесная тропинка
1. Главная - тут всё понятно. А вот далее по списку получается интересная, на мой взгляд, излюбленность названий и их иеирархия.
Важные места для немецкого населённого пункта: школа (!), сад, вокзал, деревенская улица (единственная в своём роде, историческая), гора. Потом - церковь, лес, кольцо, луг, поле. Потом - мельница, кладбище, фонтан (!), долина, промзона. И, далее: центр, почта, розарий, цветник и спортплощадка (!)
Хотя, наверное, справедливо будет заметить, что гор в Германии (может быть) всё же меньше, чем церквей, но "Горные" улицы только потому выше (в списке на 6-м месте), что "Церковные" разделены на две категории (улица=штрассе и дорога=вег).
Первая пятёрка "мест": 2. Школьная / 3 и 46. Садовая улица и дорога / 4. Железнодорожно-вокзальная / 5. Деревенская / 6. Горная
Вторая пятёрка "мест": 9 и 36. Церковная улица и дорога / 10 и 50. Лесная улица и тропинка / 11. Кольцевая / 16 и 18. Луговая дорога и улица / 23. Полевая
Третья пятёрка "мест": 25 и 39. Мельничная дорога и улица / 28. Кладбищенская / 31. Фонтановая / 40. Долинная / 41. Промышленная /
Четвёртая пятёрка "мест": 43. Центральная/ 44. Почтовая / 22 и 35. Розовая улица и дорога / 24. Цветочная / 26. На спортивной площадке
А смотрите, что в Германии с улицами по названием деревьев! Берёзовые улице чаще встречаются, чем "центральные"! То, что это "русское" дерево опередило липу в данном списке объясняется тем, что липовыми называют улицы (штрассе) или дороги-аллеи (вег). Но и так, буки, клёны, дубы, ольха, ели и сирень - в списке 50 уличных популярных названий, но берёза их опереждает.
7. Берёзовая / 8 и 32. Липовая улица и дорога / 17. Буковая / 20. Кленовая / 21. Дубовая / 27. Ольховая / 29. Еловая / 48. Сиреневая
Теперь о почитании знаменитостей. Два известных писателя, общественный деятель (про которого вы, скорее всего, и не слышали), три композитора, философ. Сюприз: улиц Шиллера больше чем улиц Гёте!
12. Шиллера 13. Гёте 15. Jahn Яна / 30. Моцарта / 33. Баха / 42. Бетховена / 49. Лессинга
И орнитологический сюрприз. В 50 чаще всего встречающихся названий немецких улиц "птичьего" примерно столько же, сколько и "знаменитого" - 5:7. Итак, часты улицы "имени птиц":
14. Чёрного дрозда / 19. Зябликов / 37. Дроздов / 38. Жаворонков / 45. Синицы
И необъяснимое. На 34 и 47 месте улицы, названные в честь Райффайзена (банка?) и Вроцлова (города). И они опережают Сиреневую, Лесную и имени Лессинга - вот уж!..
Эта запись заканчивается словами "Дневник влюблённой". Начну же со слов
С любовью к этому городу вещаю. Про любовь, и историю (её), найденную буквально на улице, на книжных "развалах". А вот подробности, как мне тут вчера опять повезло.
Вчера я зашла (игнорируя жару-уууу) на Кё-шную букинистическую ярмарку.
Как же я люблю старые книги!.. Пришла, увидела, купила - с первой минуты (буквально - бросилась в глаза с немым призывом: "КУПИ меня, я тебя больше 75 лет ждала!" книга, точнее пара книг, вторая кричала: "я ж её пара, нас вместе надо!") нашла "Я тебе" и "Я себе", про любовь - с картинками и бумажками, первое издание - 1939 год.
Не представляете, что там внутри помимо букв и "дневниково-эпистолярного" жанра.
И... столько мыслей о немцах "какие же они"! Замечательная покупка, говорю "я себе" и поздравляю себя с ней. Везучка я и книголюб (и старолюб, и бумажколюб, и букволюб)))
Оранжевая - "женский дневник" одной разочаровавшейся супруги (она по логике - продолжение первой части).
Синяя - история ухаживания мужчины за женщиной (романтические встречи и прочие "свидания влюблённых"), заканчивается словами: "мы женаты и - несмотря на это - счастливы".
История любви рассказана таким необычным образом, что, могу позволить себе подумать, должно быть, было довольно новым "словом" в то время. От обычного романа эта книга очень отличается визуально, и, скорее, она похожа на семейный альбом, чего только стоит шнурок на обложке и разноцветные страницы, каллиграфически-рукописные тексты, письма и рисунки в красной+черно-белой (и это даже ещё "куда ни шло"!)) печати, а также несколько "гарниров" - вставок: приклеенных (не отпечатанных, а именно "объёмно" вклеенных (!) фотографий, билетов в кино, квитанций и проездных билетов, телеграмм и записок!..
Смотрите, как!
Да с приколами и "вставками"!
И билетики в кино "приложены" к записке.
записка к букету цветов: "Утром в 3/4 восьмого по дороге от тебя ко мне. Возлюбленная! Что должен я тебе отправить, если не цветы? Красные розы, мои мысли, моё сердце. Я не стыжусь сказать: я так счастлив! И я твой ... *подпись"
А дальше * на обрывке бумажки - "нет, нет, нет!!"
Такая экспрессия... Что там за драма растакая?!
Романтическое назначение свидания.
Билет Люфтганзы!
Романтическое письмо с вензелями))
Вторая книга.
Титульный лист книги "Я себе. Роман для любящих и тех, кто хотел бы оставаться таковыми", "от Дина Нелькен". С квитанцией "на два места в спальном вагоне", которую нашла ревнивая жена.
И там есть загнутые уголки с приписками на углах и полях.
... с вклеенными открытками и лотерейным билетом! "Алтарчик"-складень на последней странице... Начало - А+Е=...
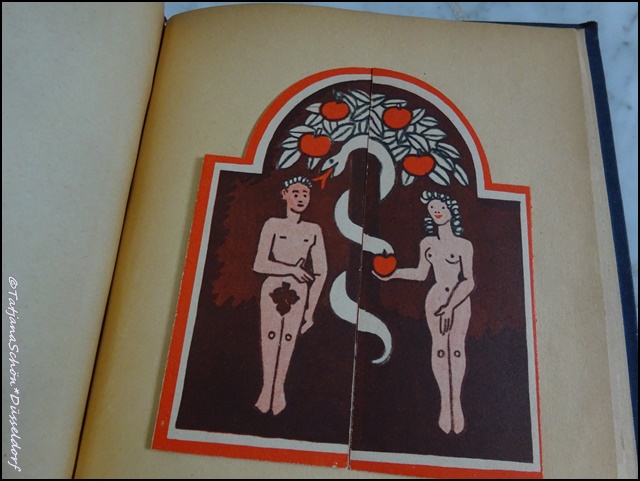
Тут на последней - дверь (отеля) с №10 и двумя парами обуви перед ней, да с цветами в ручке.


И - да - я хотела бы сама создать такую книгу о Дюссельдорфе и моей любви к нему. Поэтому она мне попалась вчера просто, непостижимо просто, да на улице Кёнигс-аллее Дюссельдорфа.

Интересно, что в книгах этих всё датировано без года. То есть: "2 мая" и "19 августа" - неопределённая во времени, то есть, история любви. А так как я не только любо-любительница, но ещё и из-учительница (в смысле: из бывших учителей истории), и мне обязательно надо историческое определение, то вот что сегодня к этим книжкам "накопала". Оказалось, 30-е и 50-е годы.
Найденная мной вчера в букинистическом восторге замечательная книга ровестницы 20 века Дины Нелькен: "я Тебе" (1938 "ich an Dich. Ein Roman in Briefen", Dinah Nelken und Rolf Gero).
___________________________________________ Томас Манн был в своё время "волхвом", чьё мнение уважали все. Но и он, конечно, не всегда был прав. Зачем-то ляпнул говорил, что все книги, которые были напечатаны в годы с 1933 по 1945 в Германии, были ничего не стоящими и думал, что их запросто нужно уничтожить (?!), сдав в макулатуру. И, нет же, господин Манн, во времена фашизма в Германии были опубликованы (и переиздавались) красивые книги а то вы не знали! Тут Томас Манн был элементарно не прав.
Смотрим на опубликоваванную в 1938/39 году книгу в Германии. Автор её - малоизвестная сегодня Дина Нелькен (Dinah Nelken) из Берлина (прожила с 1900 по 1989 годы). Ей пришлось временно пожить и в Вене, куда она с другом и братом направилась в 1936 году (со своим партнером Генри Ойленмахером (Ohlenmacher), который ранее был заключён в лагерь в Esterwegen, а также и её братом и иллюстратором её книги Рольфом Геро). После аншлюса бежала в Далматию, на остров Корчула, где она провела четыре с половиной года и состояла в контакте с партизанами. Позже она поселилась в Италии, прежде чем вернуться в 1950 году в Западный Берлин.
... Да уж, вот такая судьба ждала автора книги, только что опубликованного (в 1938 году!!) эпистолярного романа "я Тебе" (необычное оформление которого было исполнено её же братом). Учитываем, что было продано почти 220.000 экземпляров к 1945 году, уже это - основание, на самом деле, отнести книгу к бестселлерам Третьего рейха. Книга стала таким хитом, что вскоре также был снят фильм (через год после публикации книги!) "Такая, как ты" (Eine Frau wie du). А после войны книга была переиздана, написано продолжение и по нему тоже снят фильм ("Tagebuch einer Verliebten" - Дневник влюблённой) .
"Иногда после завершения работы мы предпринимали еще небольшую прогулку по ночному Дюссельдорфу, однако не в пределах Старого города, ибо обвиняемый не переносит утолщенные стекла и вывески трактиров в старонемецком духе. И вот однажды..." (известный на весь мир «Жестяной барабан», автор романа Гюнтер Грасс был награждён Нобелевской премией по литературе. Его экранизировал немецкий режиссёр Фолькер Шлендорф - фильм получил награду «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»).
Наработалась на прошлой неделе, нагулялась. Сегодня отдыхаю, осмысляя и читая (и осмысляя опять). Вот что попалось (практически, все мои последние "рабочие точки" обозначены) в рассказе Г.Грасса дальше:
"Мы стояли в полном согласии, провожая последний по расписанию трамвай, въезжающий в депо. Это красивое зрелище. Вокруг нас - темный город, вдали, поскольку на дворе пятница, горланит пьяный рабочий со стройки. В остальном - тишина, ибо последний возвращающийся в депо трамвай, даже когда он звонит и заставляет звучать закругленные рельсы, шума не производит. Большинство сразу въезжает в депо. Но некоторые продолжают то тут, то там, пустые, но празднично освещенные, стоять на рельсах. Чья же это была идея? Это была наша общая идея. Но высказал ее я. "Ну, дорогой друг, а что если?.." Господин Мацерат кивнул, мы не спеша влезли, я забрался в кабину вожатого, сразу в ней освоился, мягко тронул с места, быстро набрал скорость, короче показал себя хорошим вожатым, по поводу чего господин Мацерат - когда ярко освещенное депо уже осталось позади - дружески произнес следующие слова: "Ясно, Готфрид, что ты крещеный католик, иначе ты не сумел бы так хорошо водить трамвай". И впрямь это случайное занятие доставило мне бездну радости. В депо, судя по всему, наш отъезд даже и не заметили, потому что никто за нами не гнался, нас можно было также без труда задержать, отключив ток. Я вел вагон по направлению к Флингерну, потом через Флингерн, и уже прикидывал, то ли мне свернуть у Ханиеля влево, то ли подняться к Рату, к Ратингену, когда господин Мацерат попросил меня свернуть в сторону Графенберга и Герресхайма".
Прям, как гадание по книге - там столько знаков о моей деятельности, маршрутах, просто обрывков фраз, которые я произношу в работе...
Это художница, дюссельдорфская оригиналка. Она стоит каждый день живой скульптурой на Кё - в чёрной остроконечной шляпе и с помелом. Про неё уже говорят: "культовая фигура" (надо признать, что в Дюссельдорфе много безобидных малых культов). Кто же она: колдунья, ведьма или фея - об этом я говорила с ней (о ней) и думала? Она очень начитана, физически подготовлена, свои "стояния" на улице называла "тренировками".
Я у неё на кухонке и в ателье вчера при свидетелях гостях побывала.Очень чисто и аккуратно, всем бы так - настолько похвально. Мне очень понравилось, уважаю таких людей. А вот заметила вчера, что она из приведённых сюда гостей не отходила от порога всё время нашего знакомсва с этим неординарным и уже потому интересным человеком. Задумалась - почему, дело об образе?.. Предрассудки? Продолжаю думать (пока "молча"). Взялась за чтение в "продолжение темы ведьм-колдуний":
"Охота на ведьм, унесшая жизни тысяч человек, — столь заметная страница европейской истории, что, казалось бы, ее сложно обойти вниманием. Однако благополучный XIX век забыл о ней. Заново ее «открыли» историки лишь в первые десятилетия XX века. С тех пор были написаны сотни научных исследований о колдовстве и демонологии не только в Европе, но и в самых разных уголках мира. «Охотой на ведьм» стали называть и нацистские преследования неарийцев. Как правило, подобный террор начинается в периоды идеологических сломов и экономических потрясений".
Это из статьи Ольги Христофоровой, кандидата культурологии - читайте полностью в журнале "Вокруг света" (в рубрике "Загадки истории", кстати).
А так как это часть истории (и культуры), что я себе записываю интересные факты, почёрпнутые в этой популярной статье - о Германии, в частности. Итак, записки о ведьмах "на полях":
Где? Своего апогея ведовская истерия достигла в Германских государствах, Швейцарии, Франции и Шотландии, в меньшей степени затронув Англию, Италию и Испанию, и почти не коснулась Восточной Европы и России.
Когда? Охота на ведьм многими воспринимается как символ «мрачного Средневековья», но, как видим, ее разгар приходится вовсе не на «безмолвные века», а на начало нового времени — на XVII и даже XVIII века. Кажется непостижимым, но людей сжигали во времена Ньютона и Декарта, Канта и Моцарта, Шиллера и Гете!
Кто кого? Среди осужденных в колдовстве было около трети мужчин (а в Нормандии и Скандинавии даже подавляющее их большинство), а обвинителями очень часто выступали именно женщины. Не только мракобесы обвиняли ученых в связях с демонами, но и сами ученые нередко увлекались магией. За колдовство сжигали и безымянных рыночных торговок, и университетских профессоров.
Как их изображали? На многих картинах и гравюрах XVI—XVIII веков (от Питера Брейгеля-старшего и Альбрехта Дюрера до Франсиско Гойи) изображен один и тот же сюжет: обнаженные женщины, молодые и старые, в окружении магических книг, черепов, змей и жаб варят в котлах свое отвратительное зелье либо на козлах, собаках и ухватах летят на ночное сборище.
Что особенного в Германии? Преследование ведьм в Германии достигло высшей точки во время Тридцатилетней войны 1618—1648 годов, когда воюющие стороны обвиняли друг друга в колдовской ереси. Но и в мирные времена политическая борьба и придворные интриги часто принимали форму взаимных обвинений в колдовстве. Особенно интенсивными ведовские процессы были на территориях, затронутых Реформацией.
«Колдуны и ведьмы, — писал Мартин Лютер, — суть злое дьявольское отродье, они крадут молоко, навлекают непогоду, насылают на людей порчу, силу в ногах отнимают, истязают детей в колыбели... понуждают людей к любви и соитию, и несть числа проискам дьявола».
Свободный город Кёльн испытал ведовскую панику в 1627— 1639 годах, когда было уничтожено около тысячи человек, а один священник в письме к графу Вернеру фон Сальму так описывал ведовские преследования в Бонне начала XVII века:
«Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены... Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием... Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками Дьявола. Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет".
В это же время иезуит Фридрих фон Шпее в своем знаменитом сочинении «Предостережение судьям, или о ведовских процессах» (1631 год) резко и обоснованно выступил против этого безумия. Его услышали.
Отчего же? Судебные процессы против ведьм распространялись волнами, тесно связанными с кризисными явлениями — неурожаями, войнами, эпидемиями чумы и сифилиса, которые порождали отчаяние и панику и усиливали склонность людей искать тайную причину несчастий. Страх усыпляет разум, а сон разума, по выражению Гойи, рождает чудовищ.
Как их рассматривают учёные? Из диссертационного: Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/grotesk-v-tvorchestve-gyuntera-grassa#ixzz3TAQZBNOG
После войны Грасс, как это подробно описывается в "Жестяном барабане", перебирается в Дюссельдорф, где переживает череду творческих ипостасей: каменотес, скульптор, график, играет в джазе на стиральной доске, увлекается балетом.
Витальное и вульгарное желание стать художником, у которого на уме только одно: делать что-нибудь руками" исполняется еще до поступления в Академию искусств. Грасс овладевает искусством изготовления могильных плит и памятников (этот профессиональный опыт, как справедливо замечают многие исследователи, накладывает определенный отпечаток и на особенности его поэтики: "отсюда идет ее утонченно-грубоватая пластичность, осязаемость, отсюда — колющая резкость штриха".
По рекомендации своего учителя, он останавливается сначала в католическом общежитии — именно здесь в его беседах (а позднее и в переписке) с францисканским священником, куратором общежития, происходит дальнейшее формирование представлений о христианстве.
Культивируемая в Дюссельдорфе идеология 'экономического чуда' вынуждает Грасса переехать в Берлин. Там, совмещая занятия графикой и скульптурой, Грасс обращается уже непосредственно к литературе. К этому подталкивает его и приобретенный в монастырской библиотеке литературный багаж ("все возможное от Тракля до Бодлера"). Многомерная творческая деятельность писателя всегда основана на его визуальном восприятии. Благодаря своему особому умению наблюдать за эмпирической действительностью, Грасс воплощает феномены бытия с одинаковой образностью как в скульптуре, так и на бумаге — в графике, акварели и литературе. Гротескное пространство складывается, подобно эмблеме, из осязаемых и видимых предметов, между которыми устанавливаются связи, выходящие за рамки вещественности и несводимые к единой дефиниции: "алогичность незначительных событий предопределяет логику важных событий".
В начале мая я ездила с экскурсантами в Линц (очень всем рекомендую), и там ..."Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на "развалину". Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка".
Это прекрасные лирические описания местности вокруг Линца на Рейне из повести Тургенева "Ася". Читаю и наслаждаюсь слогом:
Read MoreПерипетии истории иногда очень забавны. Знаете, как настоящий король (немецкий или французский) становится карточным королем? Был великим и стал червовым?
Да, это я опять о нём, о короле франков. Карл Великий объединял Запад мечом и крестом. И, собственно, можно считать все его походы вынужденно крестовыми.
Великий император Галлии (и будущей Франции) говорил, как все знатные франки, на немецком языке, смешанном с латынью. Французского языка ещё не существовало?..
Вот ещё: как Карл стал персонажем игры - во французских игральных картах он - червовый король, с мечом.
"Карты начали распространяться по Европе. Существует история о том, как появилась привычная для нас колода с королями и дамами. Говорят, что изобрел её в 1392 году Жакмен Грингоннер – шут французского короля Карла VI Безумного, который, как можно догадаться по прозвищу, страдал душевным расстройством. Для развлечения своего господина шут начал придумывать различные карточные игры и заодно модифицировал колоду. Грингоннер, чтобы польстить господину, нарисовал четырех королей и объявил, что каждый из них имеет свой прототип. Король червей – это Карл Великий, пиковый – царь Давид, бубновый – Юлий Цезарь, а трефовый – Александр Македонский. Самого себя шут объявил джокером"
- прочитано на каком-то (потерянном) сайте.
"...история Германской империи являлась, по существу, историей "империи без столицы". Фактор разнородности определял её развитие в гораздо большей степени, чем фактор централизации. В этой империи отсутствовали структуры, необходимые для создания цельного государства. Прежде всего ей недоставало единой, чётко определенной династии, которая обеспечивала бы преемственность власти. Более того, важно помнить, что "Германия" в современном значении слова не имеет почти ничего общего с "Германией" Средних веков. Немецкой нации, как мы её понимаем сейчас, тогда ещё не существовало, да и сами термины "империя" и "Германия" вовсе не являлись синонимичными". Пабло де ла Рьестра "Готическая архитектура немецких земель"
...Разобраться бы (жуткие истории из тех времён по материалам А.В. Карташева) - сначала детей хотят обручить, потом сами. Что только не задумывалось для объединения востока и запада распавшейся римской империи?!
Политические страсти бурлили. Все это время царила атмосфера дворцовых переворотов. Правительство царицы Ирины в Византии: одно время, нуждаясь в нейтралитете победоносного франкского короля Карла Великого, для более спокойной войны со славянами и сарацинами она устроила помолвку своего сына Константина с дочерью Карла Ротрудой. До брака дело не дошло. Далее внутрисемейные интриги и политические разборки с браками и разводами.
Страшно, но с "радостью и веселием". Языки отрезали (если что не так говорили). Или вот смерть Константина в Константинополе: его заперли его в Пурпуровой палате, той самой, где он родился. И здесь он был варварски, с жестокостью ослеплён, после чего вскоре и умер. Сделано было это, по словам летописца, "по решению его матери и ее советников". Ирина воцарилась снова единодержавно (797-802 гг.). Это был первый, но не единственный случай единодержавия женщины на византийском троне.
B этот момент возник проект: Ирине соединиться браком с Карлом Великим и создать вновь единую Корону объединенной Империи Востока и Запада. Отправляли посольство с предложением Ирине вступить с Карлом в брак и "соединить восточные и западные области". А в Константинополе относились к Карлу однозначно: он рассматривался, как бунтовщик из западных провинций против законных василевсов. Византийцы не допустили "брака с западом" и этот "проект" забраковали не осуществился.
Карла венчали титулом императора в Риме 25 декабря 800 года. Это мыслилось, не как создание Западной Римской империи, а как введение Карла Великого во власть над единой Римской империей. Ведь и древние (IV — V вв.) разделения императорской власти мыслились в единой империи. Папа и Карл считали царский трон единой империи вакантным, ибо единовластие женщины — Ирины — считалось незаконным.
В Византии продолжали интриговать между собой. Дело дошло до заговора против Ирины. В 802 году она была свергнута с престола патрицием логофетом (министром финансов) Никифором (802-811 гг.). Ирина была лишена всего имущества и сослана на остров Лесбос, где вскоре и скончалась печальной инокиней, хотя и без пострига, предавшись аскезе. Сторонники императрицы Ирины, признательные ей за восстановление православия, не были требовательны к ней со стороны моральной, смотрели как бы поверх её вражды к сыну и, вообще, поверх её политики.
"Всё царство твое исполнилось радостью и веселием... Хвалите её все народы. Величайте ее с нами начальники и подчиненные, священники и монахи и весь христианский род. Ты угождаешь Богу, и ты радуешь избранных ангелов Божиих и людей, живущих преподобно и праведно, богоименитая Ирина! За это все уста и всякий язык прославляют тебя. Это поистине слава церкви, ревнительница по Боге и поборница истины!" - слова современников.
Вскоре после смерти Ирина была канонизована. Старый историк Шлоссер выражается так: "Ирина была религиозна, но у неё, как и у всех женских и избалованных блестящей обстановкой натур, религия была более средством, чем целью"...
Монастыри были облагодетельствованы. Перегрузка византийского государства монастырями с их экономическими привилегиями (по соображениям профессора И. Д. Андреева, монахов было тогда в империи до 100 тысяч). А в это время арабы заняли большую часть Малой Азии, а болгары — Фракию.
С императором Никифором Карл Великий вёл переговоры ο признании его законным соимператором. Лишь в 812 году произошел сговор (на византийском троне был уже Михаил I Рангаве*). Византийские послы прибыли в Аахен и привезли Карлу титул василевса. По византийскому пониманию, это значило уподобление Карла позиции западного императора V века в единой Римской империи, которая как бы одна простиралась от Армении до Атлантического океана.
Эти части мнимо единой империи были на деле уже разными мирами, жившими своей особой жизнью.
С 800 года не только скрыто-реально, но и формально существует Западная Римская империя, как и Восточная Римская империя. Вскоре Запад стал и прямо называть себя: "Священная Римская империя германской нации".
А что на востоке? Воюют дальше - любят и борятся.
"Армия, все еще дышавшая идеалами иконоборцев, не любила Михаила I за его монахолюбие. И вот, раздражённые неудачами войны, иконоборцы учинили демонстрацию. Ворвались в церковь, к гробнице их незабвенного Константина Копронима и раскрыли её с криками: "Восстань и помоги гибнущему государству!" Молва разнесла по толпе слух, что гроб открылся сам и Константин выехал из него на коне и отправился на фронт против болгар"...
8 мая 1600 года Рубенс получил паспорт - на латинском языке магистрат города Антверпена удостоверяет, что «на берегах реки Шельды нет чумы и податель сего не является носителем какой-либо опасной болезни».
9 мая 1600 года Петер Пауль Рубенс отправился из Антверпена по дорогам Франции на юг, в Венецию, чтобы потом попасть в итальянскую столицу - тогда «все дороги молодости «вели в Рим».
Он потом много ездил по европейским странам: ум и блестящая образованность, энциклопедизм в познании истории, завидная осведомленность обо всех перипетиях в правящих дворах — всё это давало ему высокое положение своеобразного арбитра, желанного собеседника, советчика не только по вопросам, связанным с искусством, но и по части дипломатии.
Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» критикует, недовольствует... И честно рассуждает о патриотизме на примере своих впечатлений о Кёльне. Сколько ожиданий и разочарований испытал он при встрече с Кёльном (и не только)! Ему, например, показалось таки, что собор не такой, каким он должен быть... Почитайте, интересно и поучительно даже:
"Язык мой был желтый, злокачественный... «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, — подумал я, — что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою.
«Величественного мало», — решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie», одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает — может быть и так. Помню, мне тогда всё что-то казалось и слышалось.
Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», — подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это всё равно; я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. «Черт возьми, — думал я, — мы тоже изобрели самовар... у нас есть журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас...» — одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее.
Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде.
Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому...
Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы".
И вот, спустя полтора столетия студенты из России посмотрели на Кёльн своими глазами, но при этом припоминая слова классика (прочитано в статье Екатерины Рылько, Сергея Степанищева, Новостная служба портала ГУ-ВШЭ).
"...Всё, чем по праву гордились кёльнцы, вызвало у нашего писателя вспышку уязвленного патриотизма! Мы же, напротив, испытали радость и любопытство. Наших студентов поразило сочетание «всех времён» в городе, отстроенном практически заново после бомбежек Второй мировой войны. Послевоенный город Генриха Бёлля, так точно и печально изображенный почти во всех его романах, сохранил и средневековье, и авангардизм двадцатого века, и самые смелые архитектурные решения нашего времени".
Желаю всем приятных путешествий, а в них изведать искренное, радостное и любопытное!
А если интрересно поподробнее о жанре, о произведении, об авторе и том времени в целом.
В письме к Н. П. Огареву в 1862 году Герцен писал: «Вчера был Достоевский — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиасмом в русский народ».
"Зимние заметки о летних впечатлениях" были впервые опубликованы в журнале «Время» (1863. № 2) с подписью: Федор Достоевский. По жанру «Зимние заметки о летних впечатлениях» — своеобразные художественные очерки. Это — путевые записки. Мысль о создании произведения такого рода была подсказана Достоевскому, вероятно, его братом, который писал ему 18 июня 1862 г.: «Да написал бы ты в Париже что-нибудь для „Времени“. Хоть бы письма из-за границы». К предложению брата, который был его соредактором по журналу «Время», Достоевский отнесся весьма сочувственно. В письме к H. H. Страхову из Парижа (1862 г.) он писал: «Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже, и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его, не ленясь Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется, почему не написать и о Париже, но вот беда: времени тоже нет. Для порядочного письма из-за границы нужно все-таки дня три труда, а где здесь взять три дня?».
Приветствуя появление в 1857 г. отдельного издания «Писем об Испании» В. П. Боткина, Н. Г. Чернышевский писал, что «путешествия везде составляют самую популярную часть литературы». Назвав лучшие книги этого рода, вышедшие в России в 1836–1846 гг., Чернышевский сетовал по поводу того, что в следующее десятилетие их было значительно меньше.
Автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» продолжал, таким образом, сложившуюся уже в русской литературе традицию. Приступив к работе, Достоевский, вероятно, просмотрел некоторые из путевых очерков своих предшественников. Он внимательно перечитал «Письма русского путешественника» H. M. Карамзина и «Письма из-за границы» Д. И. Фонвизина. В поле зрения Достоевского находились и позднейшие многочисленные путевые очерки, письма из-за границы, статьи, в которых освещалась под разными углами зрения общественная, культурная и политическая жизнь Западной Европы. Учтен был Достоевским и опыт Генриха Гейне как автора «Путевых картин» (1824–1828).
Систематическое и последовательное описание увиденного и перипетий путешествия не являлось главной задачей Достоевского. Записи путевых впечатлений в «Зимних заметках» перемежаются обобщенными публицистическими по форме очерками различных сторон жизни европейских стран, главным образом Франции и Англии, и раздумьями автора о судьбах Запада и России.
Достоевский назвал свои путевые очерки «Зимние заметки о летних впечатлениях», подчеркнув тем самым, что они писались не непосредственно вслед за наблюдениями, почерпнутыми во время путешествия, спустя некоторое время «Летние впечатления» были осмыслены и дополнены ассоциациями, возникшими у автора после возвращения на родину под влиянием актуальных проблем русской жизни. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» мы можем выделить страницы, воспроизводящие отдельные этапы путешествия и являющиеся как бы зарисовками с натуры. Это в главе I — впечатления от Берлина, Кёльна и Дрездена, в главе IV — рассказ о полицейских порядках и тайном надзоре на французской железной дороге и в парижских отелях, в главе V — зарисовки ночного Лондона, в главе VII — воспоминания о посещении Пантеона в Париже и др.
Эта часть заметок по художественной структуре генетически связана с жанром «физиологических» очерков, широко распространенных в европейской и русской литературе 1840-х годов. В то же время Достоевский разрушал установившуюся в европейской литературе традицию бесстрастной констатации фактов в описаниях этого рода. Картины жизни стран Европы вызывали у писателя раздумья по поводу проблем философско-исторического, социального и нравственно-этического характера, придававшие изложению публицистическую окраску. Значительная часть повествования посвящена, по собственному определению Достоевского, выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались». - по материалам с сайта http://www.e-reading.club

И опять не могу оторваться от статьи в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и читаю её, как интереснейший роман!
"Гравирование есть способ изображения предметов на металлах, дереве, камне, употребляемый почти исключительно с целью воспроизведения этих изображений на бумаге одною или многими красками. Резьба, сделанная с другою целью, редко называется Г. По существу гравирование есть рисование на металле и дереве при помощи особенных инструментов и средств, соответствующих поверхности, на которой нужно сделать рисунок. Оно может быть выполнено посредством режущих, царапающих, гладящих инструментов, при пособии кислот или иных жидкостей, или же рисунок может быть получен фотографическим путем и потом обращен в клише, пригодное для печатания. Произведения первого рода суть собственно гравюры, второго рода — фотогравюры в общем смысле этого слова. Настоящее Г. есть одна из отраслей изящных искусств, которая до недавнего времени служила при пособии печатания единственным средством распространения копий с произведений искусства. Печатание с гравированных досок дает эстампы, на которых только собственно и видны качества гравюры, поэтому нельзя рассмотрение печатания отделить от Г. История возникновения, видоизменений и усовершенствований гравюры изложена во второй половине статьи, здесь же излагаются технические способы Г., приведшие к разделению этого искусства на несколько разновидностей, в зависимости от чего существуют и разные способы печатания.
Гравюра может быть или углубленная, или выпуклая; в первом случае при печатании наполняются краскою углубления, а во втором - натирают краскою выпуклые части гравюры, которые все должны лежать в одной плоскости. С гравюр второго рода печатают как с буквенного набора, обыкновенным типографским станком; поэтому отпечаток с гравюры может появиться среди самого текста книги. Этого рода печатание после некоторой предварительной подготовки (см. Приправка) идет сравнительно скоро, тогда как печатание с углубленных гравюр гораздо затруднительнее и медленнее.
Способы углубленного Г. имеют следующие подразделения:
1) Г. резцом, или бюренем (au burin, en taille douce, Grabstichelei oder Linienmanier, Lineengraving); 2) Г. травлением (помощью кислот) или офортом (eau forte, Radirung, Etsching); 3) Г. черной манерой (manière noire, mezzotinto); 4) Г. акватинтой (aquatinta) и под кисть (au lavis); 5) Г. крапинками или пунктиром и под карандаш.
По рассмотрении этих способов Г. будет описано: выпуклое Г. на дереве и на металлах (преимущественно — цинк, цинкография). Литография см. отдельную статью.
1) Гравирование резцом — наиболее трудное из всех, как требующее умения рисовать в превосходной степени, верной и твердой руки для проведения режущим стальным инструментом на медной или стальной доске плавных линий различной формы и различно углубленных; ошибки в этом способе Г. почти неисправимы. Работе Г. предшествует приготовление с картины рисунка в размере предполагаемой гравюры; на сделанном рисунке уже должно обдумать расположение штрихов во всех подробностях; Г. же будет подражанием или почти копированием рисунка. Легкий контур рисунка переводится посредством прозрачной бумаги на гладкую, покрытую лаком доску красной меди; контур, переведенный на лак, слегка процарапывается иглою сквозь лак, до поверхности меди. Затем доску погружают на короткое время в так называемую крепкую водку (азотную кислоту [Продажная азотная или селитряная кислота, иначе крепкая водка, имеет относительный вес обыкновенно около 1,4, для определения которого пользуются ареометром. Надо ее разбавить водою, чтобы ареометр погрузился до 1,6 приблизительно. Такую кислоту обыкновенно употребляют граверы.]), которая растворяет медь лишь по следам, оставленным иглою, если все прочие части хорошо покрыты лаком. По смытии лака с доски обнаруживается на ней слабый рисунок, по которому начинают гравировать резцом (фиг. 1), нажимая его более или менее сильно, от чего образуются желобки различной глубины и ширины; поднявшиеся по краям медные стружки снимаются потом особой скоблилкой (ébarboir или grattoir). Последовательные состояния гравюры резцом хорошо видны на табл. "Гравирование", где изображена голова Аполлона Бельведерского от первого контура до полной законченности через два промежуточного состояния.
Вся гравюра состоит из многих групп плавных, коротких и длинных, более или менее близких к параллельности между собой линий и по местам пересеченных другими линиями, от чего происходит сетка, изображающая собою расположение светотени на действительном предмете. Маленькие квадраты, ромбы, трапеции и другой формы клеточки иногда вмещают в себе добавочные штрихи, пунктирные линии и точки, служащие для окончательной выработки светотени. Также и в тех местах, где сплошные, хотя бы не очень тонкие линии, могли бы оказаться слишком резкими, прибегают к разорванной, или пунктированной, линии.
Употребляемый для Г. резец (burin) состоит из четырехгранной закаленной стали брусочка, срезанного наконце наискось к ребру и оси пластинки так, чтобы срез получил форму ромба, которого один угол и естьрежущий конец инструмента. Такой брусочек вделан тупым концом в деревянную оправу, кот. гравер берет всогнутую руку, упирая оправу в ладонь. Таких резцов гравер имеет целый набор.
1 — Резец (burin), 2, 3, 4, 5 — иглы для гравюры травлением (офорт); 6, 8 — гладилки (brunissoirs), 7 — шабер (Schab-Eisen).
Гравюры, исполненные резцом, имеют своеобразную, геометрически правильную, красоту, идущую вообще к таким сюжетам, где тело человека и драпировки занимают больше пространства. Менее идет гравюра резцом к пейзажу (напр., в деревьях), где нужно большое разнообразие и свобода, даже прихотливость линий, далекая от геометричной правильности. Однако некоторые превосходные образцы этого рода (напр. Вуллета) Г. совершенно заставляют забывать резкую вещественность металла, по которому проходил твердый стальной инструмент, и во всяком случае условный способ изображения действительности. Всматриваясь в направление линий, выражающих выпуклости и впадины предметов, можно удостовериться, что они в перспективном отношении соответствуют действительности. Ряд близких между собою параллельных плоскостей, доведенных до поверхности какого-нибудь округлого предмета, напр., гипсовой головы, представил бы ряд линий, которые перспективно казались бы восходящими на возвышения и нисходящими в углубления. Другая система таких плоскостей, параллельных между собою, но наклонных к первым, оставила бы ряд следов, пересекающихся с первыми и еще более способствующих выражению рельефа, так что геометрическим построением можно было бы произвести некоторое подобие гравюры. Художник-гравер обдумывает наилучшее направление систем линий, изменение их ширины для характеризования им светотени и даже, в слабой степени, колорита картин, так как различие между красками отчасти входит как элемент светотени в рисунке. Печатание гравюр на бумаге представляет известные трудности, так как требуется нажатие различной силы на разные места гравюры, тем не менее, успех его зависит исключительно от качеств самой гравюры, и оно не изменяет ни одной черты оригинала; печатник должен лишь выразить все то, что есть в оригинале. Бумага, употребляемая для эстампов, может быть толстая, слегка шероховатая или с параллельными неровностями (papier vergé) или же тонкая (китайская), наклеиваемая на толстую. У нас Г. было развито слабо и хорошие печатники были только при академии художеств и в экспедиции заготовления государственных бумаг.
2) Гравирование травлением, офорт. Этот способ Г. на меди требует предварительного рисования стальной иглой на доске, покрытой лаком (грунтом); игла тонкими чертами прорезывает лак до меди, после чего доску подвергают действию кислоты, растворяющей медь, вследствие чего образуется углубленный рисунок, с которого можно печатать. Иглы, вделанные в деревянную ручку, бывают различной толщины и заострены в различной степени (см. фиг. 2, 3, 4, 5). Техника этого способа Г. гораздо легче, чем манипуляция резцом и доступна всякому умеющему хорошо рисовать. Медную подогретую доску покрывают лаком [Из многих составов (грунтового или твердого) лака здесь приводится один (Делешана). Чистого белого воска 119 весовых част., мастики в зернах 91 част., галипота 60 част., асфальта 119 част., концентрированного раствора каучука — 13 част.] и потом, держа над пламенем восковой свечи, покрывают копотью. Для покрывания лаком употребляется тампон-подушечка, шелковая или кожаная, со вложенным внутри картонным кружочком и ватою. Когда доска простынет, накладывают на нее бумагу с рисунком, натертую сзади какой-либо краской, и обводят главные части рисунка острым твердым карандашом, отчего рисунок переводится на лак. По оставшемуся следу делают иглою рисунок и, покрыв доску лаком с задней стороны, погружают ее в плоский сосуд с азотной кислотой; или же наклеивают на доску со стороны гравюры восковой бортик и наливают кислоту на гравюру. Тогда начинается отделение пузырьков газов, производящих как бы вскипание жидкости, которая мало-помалу синеет (образуется синего цвета азотнокислая соль меди). Выливая кислоту, обмыв доску водою и высушив, рассматривают в лупу черты рисунка; затем покрывают ретуширным лаком [Жидкий ретуширный лак Делешана состоит из асфальта (100 част.), янтаря (10), воска (32), мастики в зернах (25), очищенного скипидара (500), лавендуловой эссенции (64); раствора каучука (4). Высыхает скоро.] части рисунка, по-видимому, достаточно вытравленные, и опять наливают кислоты на доску для более глубоко готравления не покрытых лаком частей гравюры. Повторяя обмывание доски, покрывание частей рисунка лакоми травление, мало-помалу заканчивают гравюру. По снятии бортика и отмывании лака скипидаром, высушив доску, натирают ее краской и делают на бумаге пробный оттиск с гравюры. Обыкновенно после этого приходится снова покрыть доску лаком, закончить работу иглой и продолжать травление. Эстамп имеет вид рисунка, сделанного тонкими чертами, которые кое-где более или менее расширены действием кислоты (таб. "Гравирование", приморский вид, две фигурки по бокам). Это обстоятельство уменьшает жесткость штрихов и вообще может содействовать красивому виду рисунка, но может образовать и нежелательные пятна. Гравюра редко может быть закончена в такой степени, чтобы печатнику оставалось лишь передать бумаге то, что сделано гравером; в большинстве случаев художник рассчитывает на улучшение отпечатка путем как бы раскрашивания доски. Когда она покрыта краскою, то, не вытирая дочиста поверхность меди между чертами, куском кожи или пальцем размазывают краску, распределяя и частью снимая ее кисеей для того, чтобы образовать очень тонкий и прозрачный слой краски, связывающий отдельные штрихи и сообщающий эстампу планы, способствующие отделению одних предметов от других в воздушной перспективе. Художник иногда сам слегка раскрашивает тушью первый оттиск своей гравюры для руководства печатнику или по крайней мере присутствует при первых оттисках, делаемых печатником. [Влияние способа печатания на вид эстампа не могло быть показано на таблице "Гравирование", которая есть не что иное, как факсимиле гравюр, полученное посредством цинкотипии, воспроизводящей лишь гравюру чертами. Печатание же настоящих офортов дает им окрашивание поверхностями или планами.] Нередко приходится, независимо от этого, заканчивать гравюру несколькими штрихами иглы, уже не подвергаемыми травлению; это работа сухой иглой (à la pointe seche). Иногда пользуются и обыкновенным резцом или бюренем, чтобы несколькими сильными добавочными чертами придать более характерности первым планам. Подобным образом и граверы резцом обращаются к помощи вытравливания по чертам, намеченным резцом во второстепенных частях гравюры.
Гравирование иглой дает эстампу вид рисунка, сделанного пером [гравируют иглой на литографском камне —обыкновенно чертежи], но можно гравюре и эстампу дать вид рисованного карандашом: для этого медную доску покрывают мягким лаком (обыкновенным твердым лаком с примесью свиного сала) и, наложив довольно мягкую же бумагу с рисунком, по его чертам проводят костяною палочкою или жестким карандашом, делая более или менее широкие штрихи. Мягкий лак пристает в этих местах к бумаге и, когда она будет снята, на меди получаются штрихи, которые, будучи вытравлены кислотой и отпечатаны, дают эстамп, подобный карандашному рисунку. 3) В гравюре резцом и офорте светотень предмета изображается условным образом штрихами, между которыми есть светлые промежутки; карандашная манера уже более совершенным образом передает светотень, хотя и тут можно в лупу видеть, что штрихи состоят из крапинок, а не суть сплошные. Рисунок же, сделанный кистью в один тон, еще более приближается к натуре. Г. черной манерой (manière noire), назыв. в Италии и в Англии mezzotinto, удовлетворяет этому требованию. Оно началось в XVII стол. и еще употребляется в нашем столетии (теперь уже редко), достигнув особенного совершенства в Англии. Сущность этого способа состоит в том, что делают поверхность доски шероховатой, так, чтобы по отпечатании с нее получилась ровная черная поверхность. Затем сглаживают стальным инструментом, называемым планиром, шероховатости только частью или вполне на тех местах, которые должны выйти на эстампе более или менее светлыми. Шероховатость сообщают доске посредством гранильника или качалки(berceau). Это есть пластинка, имеющая форму сектора, который имеет ряд насечек по дуге. Нажимая инструмент к доске и покачивая его, таким образом проходят по всей поверхности медной доски сперва параллельно одному из ребер ее, потом делают то же самое по направлению, перпендикулярному первому, и наконец в третий раз — по направлению, наклонному к первым двум. Когда окончен первый тур, проходят по доске во второй раз по тем же трем направлениям; только после того, как такие штрихи будут сделаны раз двадцать по всей доске, поверхность ее готова и доска может перейти к художнику. Светотень по этому способу передается с чрезвычайной постепенностью, но недостаток его заключается в слишком неопределенном очертании предметов, чему только отчасти можно помочь помощью резца. Кроме того, число оттисков с такой доски не может быть велико.
4) Акватинта сходна с черной манерой в том отношении, что и в этом способе гравирования подготовляется зернистый ровный фон; но работа гравера на этом фоне совершенно иная, чем в черной манере. Прежде всего покрывают доску, подогревая ее снизу, довольно медленно сохнущим лаком, который должен от теплоты сделаться очень жидким, и насыпают на нее сквозь частое сито мелкотолченой поваренной соли, частички которой проникают сквозь лак до поверхности медной доски. Не ожидая полного охлаждения лака, погружают доску в воду, имеющую комнатную температуру, отчего соль растворяется и в лаковой поверхности оказываются точечные углубления различной формы; при погружении доски в кислоту, поверхность меди растворяется в этих местах и по смытии лака обнаруживается мелкозерненая поверхность доски. Очень хорошие результаты получаются также осаждением мелкой смоляной пыли на медную доску. Поднимая мехами смоляную пыль в воздух внутри более или менее высокого ящика, вдвигают в него через несколько секунд доску, на которую тогда мало-помалу осаждаются мелкие частички смолы. Вынув доску изящика, подогревают ее с обратной стороны; от этого частички смолы пристают к поверхности доски, которую затем подвергают разъедающему действию кислоты. Таким образом получается зерненая поверхность, обнаруживающаяся по смытии смолы скипидаром. Если некоторые места гравюры должны остаться гладкими (что на эстампе выходит белым), то их до травления покрывают лаком, защищающим медь от кислоты. Для этой же цели можно также, покрыв предварительно всю доску лаком и нанеся на него контур рисунка, смыть лак с тех мест, которые должны получить зерненую поверхность. Это делается кистью, которую обмакивают в жидкость, состоящую из оливкового масла, терпентина и сажи; пройденные кистью места через несколько секунд обтирают мягкою тряпочкою, обнажая таким образом медь. В заключение покрывают доску смоляною пылью и травят кислотой, вследствие чего гладкие места получают зерненую поверхность. Можно еще образовать такую поверхность, покрывая чистую медную доску раствором смолы в спирте или эфире; по испарении жидкости остается порошок смолы, которого зерна имеют величину, зависящую от рода растворенной смолы. Вместо кислоты для вытравливания зерненой поверхности можно употреблять серный цвет, смешанный с оливковым маслом; эту тестообразную массу накладывают на оставленные чистые местамеди на некоторое время, продолжительность которого (несколько минут или более) зависит от температуры. Работа же художника акватинтой на готовой зерненой поверхности состоит в том, что, покрывая лаком сначала места гравюры светлым или достаточно затененным зернением, травят кислотою остальные части, после чего покрывают последовательно достаточно вытравленные места и продолжают усиливать остальные до надлежащей степени темноты. Для более полного подражания рисункам, сделанным кистью (тушью или сепией), употребляется способ Г. (au lavis), причем рисуют кистью, обмоченною в кислоту, на меди, как рисуют водяною краскою на бумаге. По сделании контура рисунка на доске одним из известных способов, покрывают посредством кисти венецианским лаком части рисунка, долженствующие выйти на эстампе белыми, остальное слегка вытравливают. Обмыв и высушив доску, опять работают кистью, покрывая лаком готовые места, вытравляя глубже более темные места, и таким образом ведут дело до конца. Оттиснутый с такой доски рисунок представляет легкие и нежные тона, но не еще достаточно переходящие один в другой. Границы между тонами можно уничтожить, проходя по ним кистью с кислотой и быстро потом смывая последнюю. Вместо кислоты можно употребить для ретушей раствор ляписа с некоторым количеством гумми, но лучше всего пятихлористое железо. Этот род Г. дает превосходные результаты и опять в отношении лучших образцов надо указать на английские. Печатание с таких досок представляет весьма деликатный процесс.
5) Г. крапинками или пунктиром. Г. точками, или, точнее, маленькими крапинками неправильной формы, производится при помощи острых инструментов, нажимаемых рукою, или таких, по головке которых ударяют молотком. Чем мельче точечки и чем реже они расположены на какой-нибудь части гравюры, тем светлее выходит при печатании это место в эстампе. В Англии, где особенно процветали полумеханические приемы Г., пунктирная гравюра достигла прекрасных результатов, в особенности в портретах. Иногда углубления в доске делают сквозь лак, что позволяет смягчать их резкость действием кислоты. Сюда же надо отнести Г. под карандаш при помощи инструмента, называемого рулеткой, состоящего в главнейшем из маленького колеса или валика с насечками или мелкими зубцами по окружности. Прокатывая рулетку по различным направлениям, можно произвести штрихи, подобные карандашным; но наилучшее воспроизведение карандашных рисунков представила литография, которая есть непосредственное печатание с подлинного рисунка, сделанного карандашом на гладкой поверхности литографского камня. Различные видоизменения описанных способов или приложение нескольких метод в одной и той же гравюре, о чем отчасти было упомянуто, не могут быть здесь рассмотрены в подробности, но в конце статьи приведена литература предмета. Печатание по всем этим способам идет медленно, а потому дорого; по этой причине эстампы не могут служить обычным приложением дешевых книг — приложением, которое стало ныне неотложною потребностью. 6) Для скорого печатания гравюр надо, чтобы они были выпуклы, подобно буквам типографского набора, и чтобы все выпуклости лежали в одной плоскости. Этим условиям удовлетворила гравюра на дереве (ксилография). Процесс приготовления деревянной гравюры состоит в следующем. На плоской и гладкой поверхности деревяшки, выпиленной перпендикулярно фибрам дерева (бука, груши), неправильно называемого пальмовым, рисуют карандашом или пером — берем сначала самый легкий случай. Гравер вырезывает дерево между чертами рисунка и, если расстояние между ними велико, то выкапывает в дереве довольно глубокие углубления, сохраняя все правильные или неправильные особенности штрихов. Рисунок, исполненный правильными линиями, вырезается легко, но задача гравера труднее, когда черты карандаша свободны, неравной ширины и расплывчаты по краям; тем не менее, искусные граверы делают гравюры, вполне подражающие и карандашу, даже растушеванному. Иногда рисунок сделан наполовину карандашом или пером и наполовину кистью: гравер в таком случае кропотливым трудом делает факсимиле рисунка или же, исполняя его соответственными дереву штрихами, является уже не копиистом, а толкователем рисунка. В наше время граверу приходится часто вырезать по фотографии, деланной на дереве; он проводит ряды почти параллельных линий, которых толщина по длине беспрестанно изменяется сообразно с тем, приходится ли линия по светлому или по темному месту; совокупность таких штрихов производит светотень, довольно близко подходящую к фотографической. Граверы на дереве часто гравируют головы, портреты и вообще тело, подражая чертами гравюрам на меди, с тою лишь разницею в технике работ, что между пересекающимися штрихами надо вынимать дерево внутри клеточек, образуемых штрихами. Лучше всего удается гравюра на дереве, когда гравер пользуется средствами, соответствующими этому материалу, свободно делая врезные линии. Пересечением их образуются короткие черные линии и точки. Фиг. 9 и 10 представляют один и тот же предмет, вырезанный двумя способами: углубленная гравюра дает в отпечаткебелую фигуру на темном поле; та же фигура с оставленными выпуклыми чертами дает на бумаге черныйоттиск на белом поле.
Многое зависит от искусства печатания гравюр; для них делают предварительно так назыв. приправку для того, чтобы нажатие листа бумаги вальком на различные части гравюры соответствовало силе или нежности рисунка. Гравюра на дереве, хотя и способна воспроизводить картины, но бывает еще лучше в тех случаях, когда она свободна от требования близкого подражания оригиналу, т. е. сама по себе составляет оригинал. Гравер пользуется резцами, подобными тому, который изображен на фиг. 1.
Поправки в деревянной гравюре трудны; единственное, что возможно сделать, это вырезать сверлом испорченное место, вставить туда новый кусочек, на котором и гравировать. Если печатание делается не с медного клише, а с деревяшки, то обыкновенно после известного числа оттисков, очертание вставленного куска становится видимым. Для чертежей и контуров часто для скорости и дешевизны делаются врезные гравюры на дереве; при печатании получается, как было сказано, белая фигура на черном поле (фиг. 9).
Цинкография, изобретенная Жилло, есть способ выпуклого гравирования на цинке. Первоначально онсостоял в переводе отпечатанного или иного рисунка на поверхность цинковой доски, потом подвергавшейся действию кислоты, которая оставляла нетронутыми черты рисунка, сделанные краской, содержавшей масло. Теперь этот способ Г. получил чрезвычайно обширное развитие и применение с тех пор, как рисунок переводится на доску фотографическим путем. Он будет описан отдельно в статье Цинкография. Гравюры в тексте 9, 10 и 11 суть гальванопластические копии с подлинных гравюр на дереве; остальные гравюры этой статьи и таблицы суть цинкотипии.
Вспомогательные средства Г. Граверы, в особенности английские и американские, употребляют иногда вспомогательные машины, а для Г. с медалей и барельефов служат особенные машины, оканчивающие гравюру вовсе без пособия художника (см. Гравирование машинное). Кроме того, в наше время для печатанияу потребляются клише, приготовляемые действием света на светочувствительные пластинки с присоединением различных манипуляций (см. Светопись). Гальванический ток служит граверам пособием или для растворения металла, или для осаждения его. Первый случай встречается в офорте, когда вместо погружения в кислоту доску с рисунком, сделанным иглою на грунтовом лаке, помещают в раствор медного купороса (см. Гальваническое гравирование [Глифография, или приготовление выпуклых медных гравюр, описанная в конце статьи "Гальваническое гравирование" придумана Пальмером. Медную доску чернят помощью серной печени и покрывают грунтом, состоящем из воска, канифоли, спермацета и т. п. веществ, смешанных с цинковыми белилами. На этом рисуют острым инструментом, прорезывая им грунт до черной поверхности, не обнажая находящейся под ним меди. Потом все графитят и, осадив медь, получают медное клише, легко снимающееся с черной медной доски.]) и подвергают растворяющему действию гальванического тока. Углубленные черты, этим способом полученные, тоньше, чем вытравленные кислотой, и потому пересечение линий выходит по гальванопластическому способу лучше. В других случаях пользуются его осаждающим действием как для получения особенного рода гравюр (гальванография), так и для исправления ошибок при Г. резцом. Для этого осаждают гальванопластически медь на часть доски, покрыв остальное лаком, выглаживают ее поверхность и снова на ней гравируют. Гальванопластикой покрывают медные гравюры железом (сталевать — acierer), через что гравюра становится способной дать большее число оттисков без повреждений; когда железо начинает стираться, его можно совершенно растворить и вновь сталевать гравюру без всякого повреждения, ее тонкости. Гальванопластикой можно копировать гравюры (гелиогравюра Скамони, см. Светопись). Чаще всего она употребляется для изготовления медных клише с деревянных гравюр и цинкографий в тех случаях, когда предполагается такое большое число оттисков, какое не может без повреждения доставить деревянная гравюра. Все рассмотренные способы Г. предполагают печатание в один тон, одною краскою. Эстампы же, печатанные многими красками, собственно, не требуют особых способов Г. Уже в XVI ст. Шеффер печатал буквы двумя красками, приготовляя для каждой краски отдельную гравюру; подобным образом происходило печатание рисунков под камеи. Эти вопросы будут рассмотрены в статье: Печатание красками. ... На русском языке имеется "Краткое руководство к гравированию на меди крепкою водкою" А. Сомова (1885).
Гравирование машинное. — В гравюрах встречаются места, где надо проводить ряды однообразных параллельных прямых или кривых линий. В этих случаях можно пользоваться механическими приспособлениями; простейшее из них состоит из металлической линейки, которая может быть перемещаемана весьма малые величины параллельно самой себе. Очень тонкий стальной или, еще лучше, алмазный резец проводится по гравюре вдоль линейки при постоянном нажатии. Иногда бывает нужно провести ряд линий, все более и более темных, чтобы представить, например, постепенное уменьшение света к горизонту или, наоборот, в вышину; для этого поверх резца помещается чашечка, остающаяся пустою при проведении слабых линий; после этого кладут в чашечку последовательно одну, две и более дробинок (в 21/2 мм), отчего резец нарезывает все более и более глубокие линии, принимающие при печатании все более и более чернил (Jobard в Брюсселе). Иногда гравировка производится волнообразными, концентрическими круговыми, эллиптическими линиями при помощи соответственных машин. Иногда для украшения металлической поверхности на ней вырезается ряд линий прямых, волнообразных или вообще кривых, параллельных между собою или взаимно пересекающихся. — Это будет гильоширование. Самое замечательное приложение машин к Г. встречается в так назыв. портретных машинах (tour à portrait), появившихся в конце прошлого или начале нынешнего столетия (маркиз de Parois), для Г. на меди копий с медалей и барельефов. Обыкновенно граверная доска покрывается лаком и вырезанный на ней машиной рисунок вытравляют крепкой водкой, подправляя потом, где нужно, резцом. Лучшей из машин этого рода считается Коласа (Colas), устроенная в пятидесятых годах. ...Отпечаток сгравюры получает рельефный вид приятного металлического тона. Для образца воспроизводим одну из них на фиг. 12.
Кроме машины Коласа, существуют еще Гефеля, Бата, Вагнера, Перкинса, Штейервальда и многие другие. Последняя названная, гравируя очень близкими штрихами, придающими ей издали подобие акватинты, очень верно воспроизводит мелкие подробности; но эстампы этого рода не особенно красивы.
Ф. Петрушевский. Гравирование (история). — Время, к которому относится изобретение Г., нельзя определить не только с точностью, но и приблизительно. Некоторые историки находят зачатки этого искусства еще в античном мире; другие ведут его начало из Азии, а именно из Японии и Китая, откуда Г. на дереве было, по их мнению, занесено в Европу путем торговых сношений. Во всяком случае, Г. как способ размножения изображений вошло в употребление в нашей части света не прежде второй половины XIV или начала XV ст., причем выпуклая гравюра появилась раньше, чем углубленная — еще до изобретения печатания книг наборным шрифтом. Древнейший дошедший до нас памятник Г. на дереве с определенною датой — эстамп "св.Христофор" (в собрании лорда Спенсера), помечен 1423 г.; но есть полное основание предполагать, что и до этой поры в Нидерландах и Германии, особенно в прирейнских городах, ходили — конечно, еще очень грубые— печатанные ксилографически картинки, преимущественно благочестивого содержания, снабженные соответствующим ему текстом. По всей вероятности, уже из упомянутых мест мастерство Г. на дереве перешло потом в Италию и Францию.
От картинок на отдельных листах был весьма близок переход к политипажам в книгах, явившимся на смену дорогих, деланных от руки миниатюр, точно так же, как произведения типографского станка заменили собою далеко не всем доступные рукописи. Одна из древнейших книг, иллюстрированных гравюрами на дереве, — "Зерцало человеческого спасения" (Speculumhumanae salvationis), сочинение, первое издание которого, печатанное в Гарлеме Л. Костером, вышло в свет ранее 1442 г. За ним следовали "Библия для бедных" (Biblia pauperum) и другие издания с деревянными гравюрами работы неизвестных резчиков, еще весьма несовершенными, но отражающими в себе влияние таких даровитых художников, как братья в.-Эйки и Мемлинг. Первенство в производстве подобных иллюстраций долгое время принадлежало Голландии и Фландрии, с которыми в этом отношении другие страны сравнялись только в последствии. Около того же времени, а по предположению некоторых писателей— еще в самом начале XV в., практиковался другой способ выпуклого Г., так называемая "решетчатая гравюра" (gr. criblée), состоявший в том, что медная доска превращалась в политипажную через выдалбливание на ней более или менее больших и частых круглых ямочек и неправильных впадин в тех местах, которые в оттиске должны изображать света и полутени (фиг. 13).
Этот способ давал крайне плохие результаты, как то доказывают образцы исполненных им гравюр, хранящиеся во многих музеях.
Новая эра для Г. наступила с изобретением печатания эстампов с металлических досок, резанных вглубь. Это изобретение, подобно множеству других открытий, произошло случайно. Уже с давних пор золотых дел мастера прибегали для украшения своих изделий к так называемой чернети, т. е. к сплаву олова, серебра или меди с некоторым количеством буры и серы; этим сплавом, еще в горячем его состоянии, заполнялись штрихи рисунка, выгравированного резцом на гладкой серебряной или золотой поверхности; излишек сплава, выступающий из штрихов, удалялся, сплав, охладившись, делался твердым, и таким образом получалось изображение, как бы нарисованное черною краскою на блестящем фоне. Этот род орнаментации был в половине XV ст. в большом употреблении у итальянцев, особенно при изготовлении священных сосудов и других драгоценных предметов церковной утвари. Исполненные им работы назывались ньеллями (niello), a мастера, производившие эти работы, — ньеллаторами. Более чем где-либо искусство ньеллей процветало в тогдашнем центре художественной деятельности, Флоренции. Один из тамошних мастеров, Томазо, или,сокращенно, Мазо, Финигверра в 1452 г., исполняя чернетью Pax [В католическом церковном обиходе так называется небольшой металлический образ, к которому во время торжественной обедни, когда поется "Agnus Dei", священнодействующий дает прикладываться членам причта и молящимся, обращаясь к каждомусо словами "Рах tecum" (мир ти).] для местной крестильницы, с изображением небесного коронования Богородицы, и, желая судить о состоянии своей работы, затер выгравированное, как поступали и его товарищи, смесью сажи с маслом, дабы потом удалить эту краску, сделать в изображении необходимые поправки и, наконец, залить его вышеупомянутым сплавом. На неоконченную ньелль случайно попала сырая тряпка, и сажа, перейдя на последнюю из штрихов, произвела на ней точный отпечаток изображения. Это подало Финигверре мысль снова натереть пластинку черною краской и уже нарочно сделать оттиск ньелли на влажной бумаге. Результат опыта получился столь удовлетворительный, что художник стал повторять его при последующих своих работах, а другие ньеллаторы начали подражать его примеру (фиг. 14).

Прошло, однако, еще довольно много лет, прежде чем родившееся таким образом углубленное Г. получило независимость от золотых дел мастерства и сделалось специально средством размножения рисунков. Тем неменее, постепенное усовершенствование техники, направленное к этой цели, доставило, наконец, рассматриваемому искусству полную самостоятельность. За безымянными ньеллаторами, современными Финигверре, следовали, в конце XV в., Баччио-Бальдини, Сандро Боттиччели, Поллайуло и некоторые другие флорентийские художники, произведения которых представляют собою переход от младенчества гравюры к ее зрелой поре.
ГРАВИРОВАНИЕ. 1-й ряд: голова Аполлона; факсимиле гравюры резцом (бюренем на меди); 4 состояния гравюры. 2-й ряд: Приморский вид и по бокам 2 фигурки; факсимиле гравюры на меди крепкой водкой (офорт) Лаланна. 3-й ряд: факсимиле гравюры на дереве. Средняя часть — гравюра Серякова, боковые — гравюра Паннемакера.
Дальнейшее движение переносится из Флоренции на север Италии, где знаменитый живописец А. Мантенья (1431-1506) значительно подвигает Г. вперед и более других итальянцев способствует его популяризации. Им награвировано до 20-ти досок, изображающих религиозные, исторические и мифологические сюжеты и представляющих подражание черчению пером; они замечательны по тщательной выработке форм и вообще отражают в себе достоинства живописных произведений Мантеньи, но еще не дают даже намека на колорит и игру светотени. ... Около того же времени нечто подобное наблюдается и в Германии, получившей знакомство с углубленным Г., по всей вероятности, из Италии. Конечно, между начальными произведениями той и другой стран есть большая разница, но исторический ход Г. в первую пору представляет и здесь и там много аналогичного.
Как Финигверра может считаться отцом итальянской углубленной гравюры, так родоначальником немецкой можно назвать неизвестного по имени "мастера 1466 года" — даровитого художника, работы которого (напр. "Поклонение волхвов") уже выражают направление, надолго сделавшееся свойственным его соотечественникам, а именно, заботу не о правильности рисунка и красоте, а о передаче искреннего, наивного чувства, о деликатности резца и добросовестной обработке малейших деталей. Как в Италии после Финигверры самым крупным представителем гравюры явился Мантенья, так за "мастером 1466 года" следовал влиятельный Мартин Шён, или Шонгауер († 1499), подобно Мантенье живописец и вместе с тем гравер, выказавший в своих эстампах сверх большого технического мастерства большую живость фантазии и значительный инстинкт изящного. Ученики и последователи этого художника не только распространили его направление по Германии, но и перенесли его в Нидерланды, Францию и самую Италию. Из граверов, причисляемых к школе Шёна, выдаются Бартель Шён, Ф. фон-Бохольт, Венцеслав Ольмюцкий, Израэль ван-Мекенен и А. Глокетон. В то время, когда углубленная гравюра благодаря названным мастерам делала в Германии заметные успехи, немецкая ксилография продолжала идти своим примитивным путем и производила все еще грубые книжные иллюстрации и религиозные или нравоучительные картинки на отдельных листах.
Сильный толчок вперед был дан этой отрасли искусства величайшим из немецких художников Альбрехтом Дюрером (1471-1528). Еще подлежит сомнению, сам ли он резал свои превосходные ксилографии (напр., "Апокалипсис", "Житие Богородицы", "Троицу" и др.) или же только руководил при их исполнении работою своих помощников иучеников, воспроизводивших его рисунки; но гравюры на дереве, помеченные монограммою знаменитого мастера, отличаются высоким достоинством столько же в отношении замысла композиции и рисунка, сколько и с технической стороны: в них видны небывалые дотоле уверенность, чистота и живописность резца, не ограничивающегося передачей форм природы, но и намечающего до некоторой степени воздушную перспективу и колоритные эффекты. Не менее гениален А. Дюрер и в своих гравюрах на металле, еще при его жизни доставивших ему обширную известность.
Неудивительно, что такой мастер создал целую школу граверов, к которой принадлежат, между прочими, А. Альтдорфер, Г. Альдегревер, Г. Шеуффелейн, Г. Пенц, Бальдунг-Грюн, Б. и Г. З. Бегамы и Я. Бинк. Многим были ему обязаны и другие художники, трудившиеся в его пору или вскоре после него, каковы, напр., ксилографы Г. Бургмайер ("Триумфальное шествие имп. Максилиана и пр.") и Г. Лютценбургер ("Пляска смерти по рисункам Гольбейна Мл." и пр.). Среди своих современников Дюрер встретил лишь одного серьезного соперника в лице итальянца Маркантонио Раймонди (1475-1534). Последний, ученик Ф. Франчьи, вначале копировал эстампы Дюрера с поразительною близостью, подделываясь под его руку, а потом примкнул к Рафаэлю и, гравируя его композиции, нередко по нарочно изготовленным им рисункам и совершенно в его духе, занял видное место в истории искусства. Со всех концов Италии стекались к Раймонди художники, желавшие совершенствоваться в Г. Марко Денти из Равенны (Марко Равеннский), А. Музи из Венеции, Дж.-Я. Каральо из Вероны, Дж. Боназоне из Болоньи, Диана Гизи из Мантуи и многие другие имели его своим наставником или были учениками его учеников. Влияние Маркантонио распространилось не в одной Италии; оно проникло в Германию, где подверглись ему некоторые из учеников Дюрера; оно отразилось и во Франции, особенно на произведениях фонтенеблоской школы. Однако гравюра на меди, усовершенствованная этим художником, не вытеснила из употребления у итальянцев гравюры на дереве. Еще при жизни Раймонди значительно распространился особый род ксилографии, так назыв. "камеевидное" Г. (en camaïeu), изобретенное в 1510 г. И. фон-Некером, в Аугсбурге, состоящее в приготовлении двух, трех или четырех досок, при помощи которых печатается таким же числом красок эстамп, представляющий собою подражание рисунку, сделанному пером и кистью с мокрою тушью, бистром и белилами.
Популяризатором этого способа явился Уго да-Карпи (успешно факсимилировавший рисунки Рафаэля, Пармиджианино и др.), а затем успешно упражнялись в нем Н. Вичентини, А. Андреани и А.да-Тренто; тем не менее он продержался недолго, всего до конца XVI стол., будучи вытеснен из практики усовершенствовавшеюся обыкновенною ксилографией. Последняя процветала тогда преимущественно в Венеции, где к ее помощи прибегали славившиеся в ту эпоху типографщики и где вокруг Тициана образовалась группа даровитых резчиков на дереве, воспроизводивших композиции этого живописца (к их числу принадлежат Д. делле-Грекке, Н. Больдрини и др.), по-видимому, иногда при непосредственном участиисамого Тициана в их работе.
В Нидерландах история Г. на меди начинается не ранее первых лет XVI ст., т. е. с появления эстампов Луки Лейденского (1494-1533). Правда, и до него существовали здесь мастера по этой части; но произведения ихбыли грубы, младенчески-неумелы и имели ремесленный характер в ту пору, когда итальянцы и немцы уже работали хорошо. Л. ван-Лейден первый из всех своих соотечественников стал владеть бюрене мартистически, первый внес в гравюру чувство световых эффектов, придал изображению пластичность через постепенное ослабление энергии тона по мере удаления планов и в этом отношении превзошел Дюрера и Раймонди. В его гравюрах точно так же, как и в писанных им картинах, не видно погони за красотой, но бросается в глаза горячая приверженность к натуре и сильное стремление к выразительности.
Пример Л.Лейденского вдохновил многих нидерландских граверов, которые, следуя по его стопам, мало-помалу приобрели превосходство над немцами. Передача игры света и воздушной перспективы сделалась главной задачей в основанной им школе — задачей, преследование которой в нередких случаях служило во вред рисунку и вело к излишеству и изысканности средств, прилагаемых к ее достижению. Многие из последователей лейденского мастера, каковы, напр., К. Корт, Г. Гольциус, Я. Мюллер, Санредан и др., при всем искусстве, с каким владеют они гравировальными резцом и иглою, в сильной степени заражены вычурностью и жеманством. Но наряду с ними действуют и такие граверы, которые, как, напр., Н. де-Брюейн в Антверпене и братья Виринксы в Амстердаме, более сдержаны и разборчивы в приемах своей фактуры. Как бы то ни было, гравюра в Голландии и Фландрии осталась надолго верна колористическому принципу, завещанному ей Лукою Лейденским.
Этот принцип нашел себе полное и самое блестящее выражение в произведениях группы мастеров, составляющих, так сказать, свиту П. П. Рубенса (1577-1640). Можно утверждать, что никогда еще и ни один живописец не оказывал такого влияния на успех современного ему Г., как великий антверпенский художник. Л. Ворстерман, Сх. и Б. Больсверты, П. Понциус, П. Схоутман, П. Иоде, Т. ван-Тюльден, воспроизводя его композиции под его непосредственным надзором и руководством, довели гравюру до высокого совершенства в отношении колоритности, блеска светов, глубины теней и гармоничности переходов от первых ко вторым — словом, до небывалой пред тем живописности. Для достижения такого результата прекрасное средство представляет Г. крепкою водкою — прием, которым исстари пользовались оружейники для орнаментирования своих изделий насечкою, но которое стало применяться к производству эстампов неизвестно когда именно (древнейшая из дошедших до нас вытравных гравюр, "Св. Иероним" А.Дюрера, относится к 1512).
Сравнительно легкий и, с точки зрения колоритности, весьма благодарный офорт, будучи однажды усвоен художниками, получил в конце XVI и в начале XVII в. широкое применение то в подготовке гравированной доски для работы резцом, то как самостоятельный способ, употребляемый в чистом виде, без примеси подобной работы. В особенности он пришелся по вкусу живописцам-граверам. В Италии им удачно воспроизводили свои композиции Пармиджианино, Авг. Карраччи и многие художники болонской школы, а также испанец Рибера; во Фландрии к нему прибегали граверы школы Рубенса, между прочим, знаменитейший из его учеников, А. ван-Дейк (сборник портретов знакомых ему художников и любителей искусства, под заглавием "Iconographia").
Но сильнее, чем где-либо, привился этот род Г. в Голландии, где к нему прибегали многие талантливые бюренисты, каковы, напр., Корн. Виссхер, Корн. ван-Дален и И. Сюейдергоф и др., и где в цветущую пору национального искусства редкий из живописцев не расставался на время с палитрою и красками для того, чтобы заняться офортом. Из всех этих художников выделяется в ослепительном блеске Рембрандт, офорты которого столь превосходны, столь ярко выражают его гениальную индивидуальность, что их одних было бы достаточно, чтобы увековечить его славу, даже в том случае, если бы он не написал на своем веку ни единой картины. Влияние великого мастера на голландских живописцев-граверов было значительно; но вследствие оригинальности его таланта и неуловимости приемов, к каким он прибегал для осуществления своих разнообразных художественных замыслов, даже ближайшие его последователи — Ф. Боль, Я. Ливеш, Я. ван-Влит — не могли вполне усвоить себе его манеру; тем менее удавалось походить на него подражателям, не пользовавшимся его непосредственными указаниями и советами.
Школа Рубенса и Рембрандта с его последователями еще действовали во Фландрии и Голландии, а между тем первенство в деле Г. было готово перейти от этих стран к Франции, которая перед тем долго не имела своей живописи и вследствие того самостоятельной гравюры. Правда, с начала XVI века Лион и Париж производили немалое количество ксилографий; но они значительно уступали достоинством чужеземным работам этого рода. Что же касается до гравюры на меди, то первые французские мастера по ее части в течение всего XVI-го и в начале XVII стол. (Р. Буавен, Г. Дюмутье, Н. Беатризе и др.) были не более как подражатели итальянцев эпохи упадка искусства, в большинстве случаев утрировавшие их недостатки.
Отцом самобытной французской гравюры должен считаться Ж. Калло (1594-1635), произведения которого (уличные типы и сцены, карикатуры, баталические композиции и т. д.), исполненные офортом, отличаются оригинальностью манеры, смелостью и твердостью штриха, непосредственным изучением натуры и выразительностью. Благодаря Калло офорт прочно привился во Франции, где потом популяризировали его Абр. Боссе и Из. Сильвестр, из которых первый ввел многие улучшения в технику этой отрасли искусства и издал трактат о ней. Царствование Людовика XIV (1643-1715) — золотой век французской гравюры, в который она, вполне овладев всеми доступными ей средствами, перестала быть искусством, подчиненным живописи и возвысилась до значения столь же важной, как и эта последняя, художественной отрасли. Таким подъемом своим она была обязана, с одной стороны, вниманию к ней короля-солнца, оказывавшего всевозможную поддержку ее деятелям и учредившего при гобеленовском заведении особую школу, где под руководством любимого королевского живописца Лебрена приготовлялись и работали искусные граверы, а с другой стороны — появлению в рассматриваемой области нескольких замечательных дарований. Большинство граверов этого времени — ученые рисовальщики и искусные колористы, главное достоинство которых, однако, состоит в гармоничном сочетании всех ресурсов их мастерства в простоте, изяществе и серьезности стиля. Старейшие из них, каковы, напр. Т. де-Лё, Л. Готье, Ж. Морен, М. Лан, К. Меллан и др., еще заимствуют нечто от иностранцев; зато другая, более многочисленная группа проявляет полную независимость от занесенных извне принципов. ...
Кроме этих более или менее значительных художников толпа других мастеров удовлетворяла потребности в гравюрах, развившейся в массе публики, исполняя менее серьезные работы — книжные иллюстрации, картинки мод, виды городов, гравированные календари, карикатуры и т. п. Париж сделался центром, в который отовсюду стекались учиться граверы, разносившие потом французское направление во все концы Европы. Первенство в рассматриваемом направлении Франция сохраняла за собою и во все течение XVIII ст., в первой половине которого, однако, вследствие перемены, происшедшей в характере французского искусства вообще, заметным образом изменились и требования, предъявляемые к гравюре общественным вкусом. Величавый, строгий и холодный стиль Лебрена прискучил публике, и она стала все больше и больше пристращаться к внешне красивому, приятному и кокетливому; подвиги древних и новейших героев и благочестивые сюжеты постепенно уступают свое былое господство в искусстве театрально-жеманным сценам, приторным пасторалям, похождениям офранцуженных богов Олимпа. Эта перемена не обошлась, однако, без борьбы нового направления с прежним. Вообще граверов времен Людовика XV можно разделить на две группы. Одна, под влиянием живописца Риго, подчиняясь до некоторой степени общему течению, хранит еще предания предшествовавшего поколения. ...Другая, более многолюдная группа, выказывая не менее развитое техническое мастерство, трактует гравюру во вкусе Ватто, Патера, Буше и других маньеристов своего века, и, в конце его, Греза. ...
Сверх художников той и другой группы, воспроизводителей картин и портретов в более или менее крупном размере, Франция выставила в эту пору целый ряд даровитых специалистов по гравированию мелких картинок и виньеток, без которых не обходилось тогда ни одно издание поэзии и беллетристики, претендующее на изящество. Одни — Лармессен, Серюг, Делоне, Гельман, Лонгейль, Моро, Флипар и др. — передавали тонким резцом и деликатною иглою свои собственные композиции или рисунки Гравело, Эйзена, Г. де-Сент-Обена, Шоффара, Моро Младшего и им подобных красивых рисовальщиков; другие, как, напр., Фике и Ог. де-Сент-Обен, составили себе имя в особенности Г. миниатюрных портретов.
Распространившаяся мода на гравюру побуждала и людей, не получивших солидного художественного образования, пробовать в ней свои силы, что облегчалось для них простым общедоступным способом офорта. В нем упражнялись любители искусства, преимущественно из высшего круга общества: сам регент, Филипп герц. Орлеанский, герц. де-Шеврез, Гравель, гр. Кайлюс, Даржанвиль, даже дамы — герцогиня де-Люинь, королева, королевская фаворитка Помпадур, г-жа Ребу и др. Следствием той же моды было старание со стороны художников сколь возможно разнообразить приемы Г. Кроме так называемой "черной манеры" и пунктирной гравюры (gr. au pointillé), пришедшихся, как мы сейчас увидим, по вкусу более всего англичанам, пользовалась у французов конца XVIII стол. почетом карандашная манера, изобретенная в 1740-57 гг. гравером Франсуа из Нанси и усовершенствованная Ж. Демарто, но вскоре она стала применяться почти исключительно к изготовлению оригиналов для ученических упражнений в рисовании, а впоследствии у нее отняла и эту роль литография.
Столь же непродолжительно было существование и полихромной гравюры (gr. en couleurs), первые опыты которой были сделаны еще в начале предшествовавшего века голландским живописцем Ластманом; введенный в употребление во Франции и улучшенный Ж.-К. Леблоном, способ этот дал прекрасные результаты в произведениях Г. Доготи, Дюбюкура и некоторых других художников. Более прочно привилась во Франции родственная с полихромной гравюрой акватинта, по части которой лучшими мастерами явились,сверх упомянутого Дюбюкура, М. Жозе, Прево и Жирар.
Как мы уже заметили мимоходом, влияние Франции в цветущую пору ее гравюры распространилось на всю Европу. В Германии, где уже с конца XVII ст. Г. утратило художественность и оригинальность и где после умелых, но сухих и рутинных мастеров в роде M. Мериана семейства Килианов и М. Грейтера, действовали столь же посредственные И. Э. Ридингер, Хр. Дитрих, Хр. Роде и Ф. Вейротер, французское направление выразилось в прекрасных гравюрах И. Вагнера, М. Прейслера, И.-Г. Вилле и Г.-Ф. Шмидта. Лучшими представителями этого направления в Италии был К. Порпорати, в Испании — Кармона и П. Моралес. Из прочих выдающихся граверов названных стран в прошедшем столетии работали в ином духе только многосторонний Ходовецкий в Берлине и плодовитый офортист архитектурных видов и развалин Пиранези в Риме.
В Англии Г. получило художественный характер не прежде, как в царствование Карла I, и в начале было лишено самостоятельности. Значительнейший из первых английских бюренистов, В. Файтгорн, держался манеры своего учителя Нантейля; В. Голлар, способствовавший насаждению в Англии Г. травлением, был немец по происхождению и по направлению. Ученики последнего и вообще англичане вскоре пристрастились к новому роду гравюры, к так наз. черной манере, — изобретению, сделанному в 1642 г. подполковником на службе гессенского ландграфа А. фон Зигеном и занесенным в Англию палатинским принцем Рудольфом. В первое время этот способ Г., применяясь исключительно к портретным задачам, давал лишь плохие и посредственные результаты; но после того, как знаменитый живописец Дж. Рейнольдс по примеру Рубенса стал во главе целой школы граверов, число художников, искусно распоряжающихся гранильником и планиром, увеличилось, и английские черноманерные эстампы, воспроизводящие не только портреты, но и исторические картины, вошли в почет на самом континенте Европы. Лучшими мастерами по их части явились в XVIII ст. Р. Ирлом, Мак-Арделль, Смис, Дикинсон, В. Грин, и Т. Ватсон. Несколько раньше В. Гогарт положил основание сатирической английской гравюре, которою потом с успехом занимались многие другие художники. По части пунктирной манеры, равно и полихромного Г., Англия выставила нескольких искусных мастеров; наиболее популярными представителями первой были в ней поселившийся в Лондоне итальянец Фр. Бартолоцци и В. Рейланд; вторую удачнее других разрабатывал И. Тайлор. В произведениях этих художников отразилось в большей или меньшей степени влияние французской школы; но еще сильнее были проникнуты ее принципами английские бюренисты, из которых особенно прославились С. Стрендж, Ф. Виварес и В.Вуллет.
При наступлении XIX ст. главенство в области искусства принадлежало по-прежнему Франции, несмотря на разразившуюся в ней революцию и коренную перемену строя ее жизни. Многие из ее лучших художников принадлежали еще и по своему рождению, и по воспитанию, предшествовавшему времени, а потому не могли значительно уклониться от его стремлений. Один Л. Давид олицетворял собою прогресс, выражал идеалы нового французского общества. Молодые художники пошли по его стопам послушною толпою; публика смотрела на него, как на гениального возродителя отечественного искусства.
Все отрасли последнего подверглись всесильному влиянию Давида, в том числе и гравюра; но она прежде всех остальных сбросила с себя его иго. Еще в пору его деспотической власти многие из граверов, трудившихся над воспроизведением перлов живописи, свезенных отовсюду в Париж Наполеоном, благоговейно берегли предания славной эпохи французского Г. Самыми талантливыми в числе этих художников были Буше-Денуайе, П. А. Тардье и вособенности Бервик, замечательный знаток рисунка, колорита и всех ресурсов своего мастерства, но которого можно упрекнуть в излишней заботе о красоте резца и вообще о технической ловкости. Кроме названных граверов, в рассматриваемую пору заслужили известность Ж. Массар и А. Морель — воспроизведением картин Давида, Л. Копиа и Б. Роже — работ Прюдона. В то время, как Бервик слыл первейшим из граверов Франции, в Италии, где в конце XVIII ст. лучшими представителями Г. были Дж. Вольпато и П. Лонги, гордились как достойным соперником французского мастера Р. Моргеном, стоявшим в действительности ниже его, виртуозно, но бесцеременно услащавшим и искажавшим великолепнейшие памятники итальянской живописи ("Тайная Вечеря" Л. да-Винчи, "Преображение" Рафаэля и пр.) и составившим себе благодаря, главным образом, знаменитости этих оригиналов громкую, ныне значительно примолкнувшую славу.
Более строгое отношение к делу мы видим у современных Моргену немецких граверов, из ряда которых выступают два первоклассных мастера: И.-Г. Мюллер, гравер Рафаэлевской Мадонны della sedia, и его рано умерший сын, Хр.-Фр. Мюллер, автор превосходного эстампа Сикстинской Мадонны. Вообще, в начале текущего столетия граверы Германии держались приблизительно тех же принципов и приемов, как и их французские и итальянские собратья. Но вскоре под влиянием новых идей условия изменились: пробуждение национального духа, изучение средневековой эпохи, увлечение отечественною стариною и старание возродить ее с ее представлениями и верованиями — словом, романтизм, овладевший сначала немецкой поэзией, наложилсвою печать и на образные искусства.
В живописи самыми характерными выразителями нового стремления явились Овербек, Корнелиус и Каульбах; в гравюре оно породило группу художников, преимущественно мюнхенцев и штутгартцев, верных последователей названных трех живописцев: Ф. Келлер, Луди и Штейнфензанд воспроизводили композиции Овербека, Шеффер, Мерц и некоторые др. — Корнелиуса, Тетер — Каульбаха, ставя себе главною задачей детальную выделку контуров и только намечая рельеф слабою, неполною оттушевкою. Впрочем, не все немцы заразились архаизмом и сухостью; но такие художники, как Фельзинг в Дармштадте, Э. Мандель в Берлине и Стейнла в Дрездене, не потерявшие уважения к приемам, выработанным в цветущую пору Г., составляли исключение.
В Англии в то же время наблюдается также единство стремлений; но тогда как немецкие граверы при всей их холодной рефлективности проникнуты патриотизмом и убеждением в важности своего призвания и руководящих ими начал, граверы Англии не задаются высокими целями, относятся к своему делу поверхностно, щеголяют внешнею, техническою его стороною, любят внешний, бьющий в глаза эффект, резкие контрасты света и теней и порою странные темы вроде попугая или охотничьих атрибутов, гравированных в натуральную величину. К этому поощряет их эксцентрический вкус соотечественников, любительство и коллекционерство, сильно развившиеся в английской аристократии и среднем сословии. Большой спрос на гравюры заставляет исполнять их возможно поспешнее, а для того придумывать облегченные способы работы, соединять в одном и том же эстампе различные манеры.
А. Раймбах, составивший себе почетную известность гравюрами с бытовых картин Вильки, С. В. Рейнольдс, глава лондонской школы меццотинтистов, и портретист Коузинс — последние представители серьезной гравюры в Англии. После них углубленное Г. сделалось чуть не фабричным производством, пользующимся всеми средствами для скорейшего и простейшего достижения цели — вместо медных железными досками, обращаемыми потом в стальные, крепкою водкою, сухою и мокрою акватинтой, рулетками и другими механическими приборами и, наконец, ближе к нашему времени — гелиографической подготовкой доски. Таково, в общих чертах, было состояние Г. на меди в первую половину текущего столетия.
В Германии, за немногими исключениями, оно сделалось условным языком для выражения национальных и философских идей; в Англии — банальным щеголяньем легкою и разнообразною техникой; в Италии следовавшие за Вольпато и Менгсом мастера — Л. Каламатта, П. Меркури, П. Тоски и ученики последнего — старались поддержать честь отечественной гравюры, но трудились разрозненно, не в одинаковом духе. Только во Франции продолжалась преемственность направления, принятого школою граверов после Давида. Эта преемственность продолжается и поныне, несмотря на конкуренцию, которую рассматриваемая отрасль искусства встретила сперва в литографии, а потом в светописи. Одно время французские граверы стали было клониться к подражанию англичанам, но вскоре оглянулись назад и возвратились к самостоятельности. ...
Несмотря на усилия этих художников, равно как и многих талантливых мастеров, трудящихся в других странах (напр., Вебера в Швейцарии, де-Кейзера в Голландии, Био и Франка в Бельгии, Якоби, Зонненлейтера и Клауса в Австрии, Келлера в Пруссии и пр.), круг распространения гравюры суживается все более и более вследствие отсутствия требований и постепенного усовершенствования светописных способов получения эстампов. Гравюры, исполненные вполне художественно резцом, являются все реже и реже; черная манера повсюду вышла из употребления; весьма редко практикуется и акватинта, по крайней мере в чистом виде, без примеси работы бюренем или офорта. Ксилография, почти совершенно заброшенная с начала XVII ст. и призванная снова к жизни во второй половине XVIII ст. англичанином Т. Бевиком, хотя и возделывалась с тех пор многими искусными художниками и в последние десятилетия достигла высокого совершенства, особенно во Франции, Англии и Сев. Америке, однако встретила сильную соперницу в цинкотипии, неспособной, конечно, тягаться с нею в отношении художественности, но, тем не менее, отнимающей от нее широкое применение. Не пострадал один лишь офорт, как прием Г., доступный каждому художнику, позволяющий ему импровизировать на медной доске непосредственно самому, передавать ей свою идею, свою композицию; мало того, офорт получил в наши дни еще большее, чем прежде, распространение. Во всех артистических центрах Европы можно насчитать десятки художников, с успехом занимающихся офортом; во многих местах возникли целые общества, заботящиеся об его совершенствовании и популяризации.
Немного сокращённый материал из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Автор журнала «Всё о Дюссельдорфе», градовед и гид по Дюссельдорфу.
Автору приятно
получать отзывы
от читателей
и экскурсантов
АНОНСЫ
Если у вас есть вопросы или предложения, пишите мне на mydusseldorf@gmail.com
В Европу!
Германия-онлайн
Посольство Германии
Чарующее путешествие
Deutsche Welle
Копирование материалов разрешено только с указанием автора и ссылки на цитируемую статью
При поддержке design-ed.ru