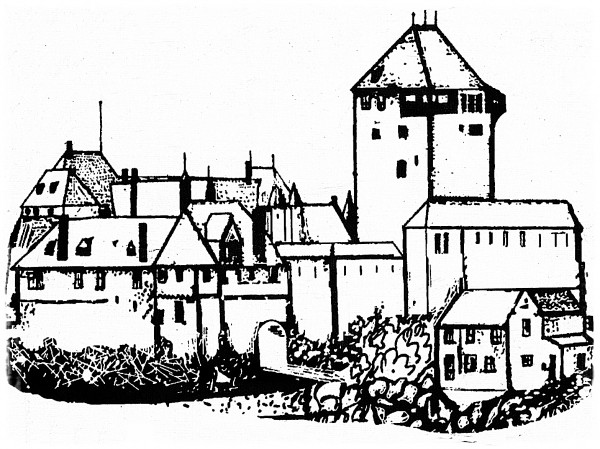Одна, к примеру, сказка написана Жуковским в 1831 и впервые напечатана в журнале «Европеец», 1832, № 1 под заглавием «Сказка о спящей царевне». Жуковский русифицировал сказку, введя некоторые русские народные черты. Литературоведы говорят также, что...
Жуковский неоднократно пересматривал и переделывал текст сказки, при этом он, по мнению специалистов, "ослаблял чисто сказочные черты стиля и усиливал религиозно-дидактический элемент рассказа, придавая последнему характер притчи, соответственно своим религиозным настроениям в последние годы жизни".
Можжевельник, миндальное или тюльпановое дерево?
В рукописи произведение ошибочно озаглавлено «Миндальное дерево», Сказка и представляет собою переложение прозаического текста №47 из сборника братьев Гримм, Якова и Вильгельма, «Kinder und Haus Märchen» («Детские и домашние сказки»). В сказке «Von dem Machandelboom (Vom Wacholderbaum)» («О можжевеловом дереве») - текст у братьев "людоедский" ("Меня мачеха убила, Мой отец меня же съел")... У Жуковского же дело обходится "неумышленным" убийством и неведением ("Отец родной не ведает о том"), чудесным погребением и превращением и потом - местью-карой.
Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек. Он был женат
И всей душой любил свою жену;
Но не было у них детей; и это
Их сокрушало, и они молились,
Чтобы господь благословил их брак;
И к господу молитва их достигла.
Был сад кругом их дома; на поляне
Там дерево тюльпанное росло.
Под этим деревом однажды (это
Случилось в зимний день) жена сидела
И с яблока румяного ножом
Снимала кожу; вдруг ей острый нож
Легонько палец оцарапал; кровь
Пурпурной каплею на белый снег
Упала; тяжело вздохнув, она
Подумала: «О! если б бог нам дал
Дитя, румяное как эта кровь
И белое как этот чистый снег!
И только что она сказала это, в сердце
Ее как будто что зашевелилось,
Как будто из него утешный голос
Шепнул ей: «Сбудется». Пошла в раздумье
Домой. Проходит месяц — снег растаял;
Другой проходит — все в лугах и рощах
Зазеленело; третий месяц миновался —
Цветы покрыли землю, как ковер;
Прошел четвертый — все в лесу деревья
Срослись в один зеленый свод, и птицы
В густых ветвях запели голосисто,
И с ними весь широкий лес запел.
Когда же пятый месяц был в исходе —
Под дерево тюльпанное она
Пришла; оно так сладко, так свежо
Благоухало, что ее душа
Глубокою, неведомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился месяц — стали наливаться
Плоды и созревать; она же стала
Задумчивей и тише; наступает
Седьмой — и часто, часто под своим
Тюльпанным деревом она одна
Сидит, и плачет, и ее томит
Предчувствие тяжелое; настал
Осьмой — она в конце его больная
Слегла в постелю и сказала мужу
В слезах: «Когда умру, похорони
Меня под деревом тюльпанным»; месяц
Девятый кончился — и родился
У ней сынок, как кровь румяный, белый
Как снег; она ж обрадовалась так,
Что умерла. И муж похоронил
Ее в саду, под деревом тюльпанным.
И горько плакал он об ней; и целый
Проплакал год; и начала печаль
В нем утихать; и наконец утихла
Совсем; и он женился на другой
Жене, и скоро с нею прижил дочь.
Но не была ничем жена вторая
На первую похожа; в дом его
Не принесла она с собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрела, в ней смеялася душа;
Когда ж глаза на сироту, на сына
Другой жены, невольно обращала,
В ней сердце злилось: он как будто ей
И жить мешал; а хитрый искуситель
Против него нашептывал всечасно
Ей злые замыслы. В слезах и в горе
Сиротка рос, и ни одной минуты
Веселой в доме не было ему.
Однажды мать была в своей каморке,
И перед ней стоял сундук открытый
С тяжелой, кованной железом кровлей
И с острым нутряным замком; сундук
Был полон яблок. Тут сказала ей
Марлиночка (так называли дочь):
«Дай яблочко, родная, мне». — «Возьми», —
Ей отвечала мать. «И братцу дай», —
Прибавила Марлиночка. Сначала
Нахмурилася мать; но враг лукавый
Вдруг что-то ей шепнул; она сказала:
«Марлиночка, поди теперь отсюда;
Обоим вам по яблочку я дам,
Когда твой брат воротится домой».
(А из окна уж видела она,
Что мальчик шел, и чудилося ей,
Что будто на нее с ним вместе злое
Шло искушенье.) Кованый сундук
Закрыв, она глаза на двери дико
Уставила; когда ж их отворил
Малютка и вошел, ее лицо
Белее стало полотна; поспешно
Она ему дрожащим и глухим
Сказала голосом: «Вынь для себя
И для Марлиночки из сундука
Два яблока». При этом слове ей
Почудилось, что кто-то подле громко
Захохотал; а мальчик, на нее
Взглянув, спросил: «Зачем ты на меня
Так страшно смотришь?» — «Выбирай скорее!» —
Она, поднявши кровлю сундука,
Ему сказала, и ее глаза
Сверкнули острым блеском. Мальчик робко
За яблоком нагнулся головой
В сундук; тут ей лукавый враг шепнул:
«Скорей!» И кровлею она тяжелой
Захлопнула сундук, и голова
Малютки, как ножом, была железным
Отрезана замком и, отскочивши,
Упала в яблоки. Холодной дрожью
Злодейку обдало. «Что делать мне?» —
Подумала она, смотря на страшный
Захлопнутый сундук. И вот она
Из шкапа шелковый платок достала,
И, голову отрезанную к шее
Приставив, тем платком их обвила
Так плотно, что приметить ничего
Не можно было, и потом она
Перед дверями мертвого на стул
(Дав в руки яблоко ему и к стенке
Его спиной придвинув) посадила;
И наконец, как будто не была
Ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг
Марлиночка в испуге прибежала
И шепчет: «Посмотри туда; там братец
Сидит в дверях на стуле; он так бел;
И держит яблоко в руке; но сам
Не ест; когда ж его я попросила,
Чтоб дал мне яблоко, не отвечал
Ни слова, не взглянул; мне стало страшно».
На то сказала мать: «Поди к нему
И попроси в другой раз; если ж он
Опять ни слова отвечать не будет
И на тебя не взглянет, подери
Его покрепче за ухо: он спит».
Марлиночка пошла и видит: братец
Сидит в дверях на стуле, бел как снег;
Не шевелится, не глядит и держит,
Как прежде, яблоко в руках, но сам
Его не ест. Марлиночка подходит
И говорит: «Дай яблочко мне, братец».
Ответа нет. Тут за ухо она
Тихонько братца дернула; и вдруг
От плеч его отпала голова
И покатилась. С криком прибежала
Марлиночка на кухню: «Ах! родная,
Беда, беда! Я братца моего
Убила! Голову оторвала
Я братцу!» И бедняжка заливалась
Слезами и кричала криком. Ей
Сказала мать: «Марлиночка, уж горю
Не пособить; нам надобно скорей
Его прибрать, пока не воротился
Домой отец; возьми и отнеси
Его покуда в сад и спрячь там; завтра
Его сама в овраг я брошу; волки
Его съедят, и косточек никто
Не сыщет; перестань же плакать; делай,
Что я велю». Марлиночка пошла;
Она, широкой белой простынею
Обвивши тело, отнесла его,
Рыдая, в сад, и там его тихонько
Под деревом тюльпанным положила
На свежий дерн, который покрывал
Могилку матери его... И что же?
Могилка вдруг раскрылася, и тело
Взяла, и снова дерн зазеленел
На ней, и расцвели на ней цветы,
И из цветов вдруг выпорхнула птичка,
И весело запела, и взвилась
Под облака, и в облаках пропала.
Марлиночка сперва оторопела;
Потом (как будто кто в ее душе
Печаль заговорил) ей стало вдруг
Легко — пошла домой и никому
О бывшем с нею не сказала. Скоро
Пришел домой отец. Не видя сына,
Спросил он с беспокойством: «Где он?» Мать,
Вся помертвев, поспешно отвечала:
«Ранехонько ушел он со двора
И все еще не возвращался». Было
Уж за полдень; была пора обедать,
И накрывать на стол хозяйка стала.
Марлиночка ж сидела в уголку,
Не шевелясь и молча; день был светлый;
Ни облачка́ на небе не бродило,
И тихо блеск полуденного солнца
Лежал на зелени дерев, и было
Повсюду все спокойно. Той порою
Спорхнувшая с могилы братца птичка
Летала да летала; вот она
На кустик села под окошком дома,
Где золотых дел мастер жил. Она,
Расправив крылышки, запела громко.
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Услышав это, золотых дел мастер
В окошко выглянул; он так пленился
Прекрасной птичкою, что закричал:
«Пропой еще раз, милая пичужка!» —
«Я даром дважды петь не стану, — птичка
Сказала, — подари цепочку мне,
И запою». Услышав это, мастер
Богатую ей бросил из окна
Цепочку. Правой лапкою схвативши
Цепочку ту, свою запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кустика с своей добычей,
И полетела далее, и скоро
На кровлю домика, где жил башмачник,
Спустилася и там опять запела:
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Башмачник в это время у окна
Шил башмаки; услышав песню, он
Работу бросил, выбежал на двор
И видит, что сидит на кровле птичка
Чудесной красоты. «Ах! птичка, птичка, —
Сказал башмачник, — как же ты прекрасно
Поешь. Нельзя ль еще раз ту же песню
Пропеть?» — «Я даром дважды не пою, —
Сказала птичка, — дай мне пару детских
Сафьянных башмаков». Башмачник тотчас
Ей вынес башмаки. И, левой лапкой
Их взяв, свою опять запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кровли с новою добычей,
И полетела далее, и скоро
На мельницу, которая стояла
Над быстрой речкою во глубине
Прохладный долины, прилетела.
Был стук и шум от мельничных колес,
И с громом в ней молол огромный жернов;
И в воротах ее рубили двадцать
Работников дрова. На ветку липы,
Которая у мельничных ворот
Росла, спустилась птичка и запела:
«Зла мачеха зарезала меня»,
Один работник, то услышав, поднял
Глаза и перестал рубить дрова.
«Отец родной не ведает о том»;
Оставили еще работу двое.
«Сестрица же Марлиночка меня»;
Тут пятеро еще, глаза на липу
Оборотив, работать перестали.
«Близ матушки родной моей в саду»;
Еще тут восемь вслушалися в песню;
Остолбеневши, топоры они
На землю бросили и на певицу
Уставили глаза; когда ж она
Умолкнула, последнее пропев:
«Под деревом тюльпанным погребла»,
Все двадцать разом кинулися к липе
И закричали: «Птичка, птичка, спой нам
Еще раз песенку твою». На это
Сказала птичка: «Дважды петь не стану
Я даром; если же вы этот жернов
Дадите мне, я запою». — «Дадим,
Дадим!» — в один все голос закричали.
С трудом великим общей силой жернов
Подняв с земли, они его надели
На шею птичке; и она, как будто
В жемчужном ожерелье, отряхнувшись,
И крылышки расправивши, запела
Звучней, чем прежде, и, допев, спорхнула
С зеленой ветви, и умчалась быстро,
На шее жернов, в правой лапке цепь,
И в левой башмаки. И так она
На дерево тюльпанное в саду
Спустилась. Той порой отец сидел
Перед окном; по-прежнему в углу
Марлиночка; а мать на стол сбирала.
«Как мне легко! — сказал отец. — Как светел
И тепел майский день!» — «А мне, — сказала
Жена, — так тяжело, так душно!
Как будто бы сбирается гроза».
Марлиночка ж, прижавшись в уголок,
Не шевелилася, сидела молча
И плакала. А птичка той порой,
На дереве тюльпанном отдохнувши,
Полетом тихим к дому полетела.
«Как на душе моей легко! — опять
Сказал отец. — Как будто бы кого
Родного мне увидеть». — «Мне ж, — сказала
Жена, — так страшно! все во мне дрожит;
И кровь по жилам льется как огонь».
Марлиночка ж ни слова; в уголку
Сидит, не шевелясь, и тихо плачет.
Вдруг птичка, к дому подлетев, запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Услышав это, мать в оцепененье
Зажмурила глаза, заткнула уши,
Чтоб не видать и не слыхать; но в уши
Гудело ей, как будто шум грозы,
В зажмуренных глазах ее сверкало,
Как молния, и пот смертельный тело
Ее, как змей холодный, обвивал.
«Отец родной не ведает о том».
«Жена, — сказал отец, — смотри, какая
Там птичка! Как поет! А день так тих,
Так ясен и такой повсюду запах,
Что скажешь: вся земля в цветы оделась.
Пойду и посмотрю на эту птичку». —
«Останься, не ходи, — сказала в страхе
Жена. — Мне чудится, что весь наш дом
В огне». Но он пошел. А птичка пела:
«Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
И в этот миг цепочка золотая
Упала перед ним. «Смотрите, — он
Сказал, — какой подарок дорогой
Мне птичка бросила». Тут не могла
Жена от страха устоять на месте
И начала как в исступленье бегать
По горнице. Опять запела птичка:
«Зла мачеха зарезала теня»,
А мачеха бледнела и шептала:
«О! если б на меня упали горы,
Лишь только б этой песни не слыхать!» —
«Отец родной не ведает о том»;
Тут повалилася она на землю,
Как мертвая, как труп окостенелый.
«Сестрица же Марлиночка меня...»
Марлиночка, вскочив при этом с места,
Сказала: «Побегу, не даст ли птичка
Чего и мне». И, выбежав, глазами
Она искала птички. Вдруг упали
Ей в руки башмаки; она в ладоши
От радости захлопала. «Мне было
До этих пор так грустно, а теперь
Так стало весело, так живо!» —
«Нет, — простонала мать, — я не могу
Здесь оставаться; я задохнусь; сердце
Готово лопнуть». И она вскочила;
На голове ее стояли дыбом,
Как пламень, волосы, и ей казалось,
Что все кругом ее валилось. В двери
Она в безумье кинулась... Но только
Ступила за порог, тяжелый жернов
Бух!.. и ее как будто не бывало;
На месте же, где казнь над ней свершилась,
Столбом огонь поднялся из земли.
Когда же исчез огонь, живой явился
Там братец; и Марлиночка к нему
На шею кинулась. Отец же долго
Искал жены глазами; но ее
Он не нашел. Потом все трое сели,
Усердно богу помолясь, за стол;
Но за столом никто не ел, и все
Молчали; и у всех на сердце было
Спокойно, как бывает всякой раз,
Когда оно почувствует живей
Присутствие невидимого бога.