Всё углубляюсь в тему лектория "Русские в Дюссельдорфе", в процессе подготовки новой экскурсии про Дюссельдорф 19 века, продолжу цитировать мнение художника Боголюбова. А вот что им рассказано (и без всякого стеснения в выражениях!) далее в книге ”Записки моряка-художника“: 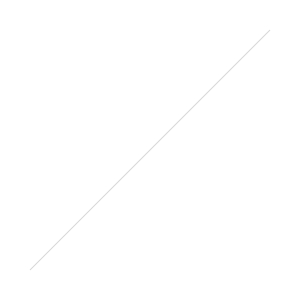
1859 год.
"Приехав в Дюссельдорф после Парижа, где я пробыл два года с половиной учеником доброго и гениального моего учителя Эжена Изабе, я поступил опять в ученики профессора Ахенбаха.
При отъезде мой французский маэстро напутствовал меня следующей фразой: "Вспомните меня, не оставайтесь долго у вашего Ахенбаха в немецкой школе, или вы будете черствы, как три немца". Отчасти Изабе был прав, но за Андреем Ахенбахом есть столько громадных качеств, способных образовать юного художника, что поучиться у него было вовсе не лишним для меня, страдавшего всегда слабым рисунком, в котором отец Андрей велик, как Бог!
Принял он меня гордо, но довольно вежливо. Взялся учить за 30 талеров в месяц. Учеников у него было только трое: Пост, Гуде и я, остальных он тотчас выпроваживал, коль скоро замечал, что ничего не делают или бесталанны. При таких условиях работать стало необходимо во все пары, что я и делал. К тому же приспела весна, и он послал меня в Шевенинген на этюды, рекомендуя забыть о его картинах и руководствоваться только своим собственным взглядом на природу: "Мною вы никогда не будете, да и Боголюбова не создадите, думая об Ахенбахе".
Возвратясь домой через три месяца, я привёз пропасть тщательных рисунков с натуры и столько же этюдов. Более всего отец Андрей одобрил корабли, барки, пароходы, лодки и, узнав мою силу, советовал мне всегда держаться этой отрасли и сказал: "Истинно морских художников очень немного, а мы все только лодочники". Это и правда. Ахенбах чертил и знал превосходно шевенингенскую конструкцию, но как только дело доходило до морского судна, он вечно хромал знанием, почему впоследствии ему, как и Изабе, мне приходилось поправлять конструкцию судов, чертить снасти от руки, по муштабелю и указывать на недостаточность страдания судна на волне. Но до этого доверия я дожил только разве через полтора года. Маэстро ругал меня всегда за небрежность письма, чем я сильно заразился во Франции. "Хотите быть мастером, не быв учеником", - говорил он мне, часто уснащая речь острыми до язвительности словами, но я подавлял моё внутреннее бешенство: "Погоди, мол, отсосу тебя, так и сдачи получишь!".
Вообще натура отца Андрея была не совсем светлая. Он был денежный маклак, что показала его женитьба на известной красавице, но дуре м-ль Лихтшлях, за которой он взял полмиллиона талеров, для достижения чего должен был переменить веру, перекрестив из лютеранина в католичество с собой заодно бессознательного брата Освальда, которому было тогда только семнадцать лет. За это он был в великом почёте, у местных попов. Впоследствии он писал даже образа в собор, что ему давало право носить хвост ризы епископа в процессиях по городу, где я его видел своими глазами лысого, без шляпы, блуждающим самодовольно со свечой в руке.
С братом своим он жил весьма плохо, как говорил мне, когда мы сблизились, что всему причиною жена Освальда, фамилия которой как-то проворовалась. Но это вздор. Фамилию я знал лично. То были гостеприимные, но бедные люди. Один Арене, точно, убежал в Америку по какому-то любовному делу, но вовсе не должником. Поистине же причиной разлада была жена Андрея, завистливая католичка, боявшаяся, чтобы Освальд не помрачил талантов её мужа. Почему сей примерный брат никогда не писал ничего более, как итальянские жанры с пейзажами, дабы не встретиться на той же почве. С Освальдом я скоро спился на "ты", полюбил его как друга и мог оценить его честную душу, которая, несмотря на все злобы старшего брата, никогда не забывала, что он его создал как художника и поддерживал в юности как человека после смерти отца, торговавшего уксусом, что ему вовсе не мешало произвести на свет двух гениальных художников, но острота его товара передалась обоим в речи, в особенности Андрею.
По богатству и таланту Андрей Ахенбах занимал в городе почётнейшее место. Дом его был открыт для всех именитых посетителей. Он любил угостить друзей хорошим вином и едой, что поистине редко в Дюссельдорфе. В Малькостене (клубе) он был старшиною и даже дал деньги художникам, чтобы купить место для нового здания, конечно, за проценты. Его тоненький, но звонкий голос всегда был слышен в обществе при рассказе всякого рода анекдотов. Он писал декорации со своими учениками для клубных театров и делал их превосходно, шутя. Но всё это делалось, чтобы его заметили, беда тому, кто позволял себе ответить такой же колкостью на его язву. Тут он был неумолим и долго платил двойною злобой за нарушение почёта.
Имел он также непростительную страсть к величию и унижался перед юнкерством в смысле родовитости. Мало ему быть Андреем Ахенбахом. С этим именем была связана громкая слава, добился её гениальным талантом, но он всё лез в благородные связи, а потому дом его переполнялся молодыми офицерами гвардейского гусарского полка, стоявшего тогда в Дюссельдорфе, что часто вносило элемент, враждебный художникам. В глазах его я был человеком уже потому, что родился дворянином, на основании чего он всегда старательно приставлял к моей фамилии частицу "фон", рекомендуя меня всякой военной сволочи. У него было три дочери, что отчасти оправдывало его как отца, желавшего пристроить их за дворян. Результатом вышло его нынешнее горе, ибо два зятя прокутились дотла, народив ему кучу внучат.
Кроме Андрея и Освальда Ахенбахов в городе жил старик профессор Шадов - директор Академии, сухарь по живописи, идеалист по школе, друг Корнелиуса и учитель Каульбаха. Сей великий муж часто страдал от насмешек Андрея Ахенбаха, до тех пор, пока он не купил его дом с паскудными фресками. Вроде Шадова были ещё художники - мистики Мюллер, Мюкке и прочие. Всё это составляло тогдашнюю Академию. Лессинг - пейзажист, жанрист и историк - тоже проживал здесь. Странно, что я никогда не мог дивиться его гению. Пейзаж представляли, кроме братьев Ахенбахов, К. Лейде, Веббер, Брумессал, Лели, портрет - Зоны, отец и сын, профессор Хильдебрант, он же историк. Но это всё были старики, а из молодых назову Освальда Ахенбаха, Зона-сына, Михелиса, Вотье, Клауса, Макса Гесса, гравёра Фогеля, в обществе которых я жил постоянно. Отец и благодетель или подлец и грабитель наш был картинный торговец Шультен. На его выставке всегда можно было видеть всё новенькое, но платил он молодым талантам так плохо, что разве только для славы, что вещь продана, начинающий свою карьеру отдавал картины ему.
...
В этот период времени я встретился в Париже снова с Надеждой Павловной Нечаевой ... Но где было думать о женитьбе, когда в кармане нет ни гроша, а башка полна всякими проектами будущих картин. Но, несмотря ни на что, я был ею поражён и вернулся в Дюссельдорф как будто оврачёванным нравственно. Жизнь и работа всё-таки шла у меня по-прежнему.
Дело подходило к карнавалу. Художники отставили начатые картины и готовили пьесу. Как ученик Ахенбаха, я тоже пошёл малевать декорации с учителем, но скорее подавал ему горшки с краской и мыл кисти, ибо он заставлял только прокрывать пространства подготовленной краской, по которой бойко ходил широкой кистью, так что в час писал дневную декорацию. Надо было красивого дурака в пьесе, чтобы быть посланным герольдом от какого-то принца к старому отцу. Дело шло о спросе руки дочери. Роль состояла в нескольких словах, следовательно, была самая вздорная. Никто её не хотел брать, ибо костюм стоил дорого, а виду было очень мало. Пристали ко мне товарищи - играй да играй. "Да что вы, друзья, - говорю я, - ведь я говорю по-немецки, как испанская корова". - "Да это и хорошо, ведь ты играешь иностранца". Ну и стал я играть герольда. Справил себе костюм по рисунку. Конечно, все золотые шнуры были золочёные верёвки, кружева рисовал на кисее и тюле самодельщиной. Но издали костюмы были у нас дивные - бархат, серебро, золото, и всё своего производства - сусального. Живые картины ставились дивно. Тут Макс Гесс и Освальд Ахенбах отличались в декорациях с Андреем Ахенбахом. Ими торговал даже клуб Малькостен, ибо платили дорого провинциальные города за эти холсты. А прибыль пропивалась.
Летом в саду давались феерии*...
Живя в Дюссельдорфе, я был дружен с художником пейзажистом Михелисом. Это был чудак человек, все свои гроши он употреблял на старьё, и его мастерская была настоящий музей. Он был чахоточный, женился, потерял жену и часто грустил. "Куда ты денешь весь этот хлам, - спрашиваю я его, ведь это вся твоя жизнь, всё твоё богатство!" - "А вот куда. Умру, так это пойдёт в родной город (*это о Мюнстере*). Там ничего нет художественного, кроме старых башен. Одну из них я приглядел в смысле музея и завещаю, чтоб всё там было установлено". Мысль Михелиса никогда меня не покидала, и ежели я основал Радищевский музей, то ему обязан. Когда я стал уже со средствами, то начал собирать тоже картины и редкости и, наконец, когда у меня не стало ни жены, ни ребёнка, то постоянно думал и додумался до Саратовского Радищевского музея, где в память моего деда, Александра Радищева, теперь стоит храм со всем моим добром и где будет под той же крышей когда-нибудь Боголюбовская школа.
Побывав в Париже и усвоив, сколько возможно было, новую французскую школу мастеров, я стал строго сравнивать её со школой дюссельдорфской и убедился, что художество немецкое тупо, развратно по колориту и без гармонии красок. Не отниму от некоторых мастеров их достоинств. Например, Менцель, это такой же феномен, как Мейссонье во Франции. Братья Ахенбахи - здоровые художники, Кнаус тоже, но всё-таки изыскание натуры у них всегда прислащено "отсебятиной", как говорил К.П. Брюллов. Например, знаменитый живописец Рихтер - слащав и в рисунке часто страдает, а Ленбах что имеет своё, кроме способности бойко писать? Он пишет с вас портрет, а думает сделать фигуру Гольбейна или Тициана. А что касается до школы мыслителей, как Каульбах, Корнелиус, Овербек и прочие, то эти люди с условным классическим рисунком без колорита требуют, чтобы вы жизнь какого-нибудь Геркулеса понимали, как они сами, городят чёрт знает какую чепуху в своих композициях, так, что когда посмотришь на их работы, то просто одуреешь. Ну, подойдите к порталу Берлинского старого музея картин, пробегите всю эту кирпичную живопись - и скажете, что я прав! А Каульбах в своих фресках "Столпотворение", "Бой гуннов" и, наконец, "Реформация" что сказал? Опять ерунду. В последнюю потащил древний и новый мир и, наконец, себя поставил, глядящего на Лютера, который, по его мнению, всё реформировал. А хейлиг малеры{Церковные религиозные живописцы.} - разве это не идущие в хвосте Рафаэля, Перуджино, Чимабуэ, что они дали, какую усладу религии и искусству?
Главное бедствие Германии заключается, по-моему, в образовании кунст-феррейнов, то есть художественных поощрительных обществ, которыми покрыта вся страна. Феррейны делают выставки везде, и раз сданная туда картина хоть за грош, но будет продана или поступит в лотерею. С этого опять возьмут процент в копилку общества, а остаток отдадут художнику, который, хоть впроголодь, но живёт своею подлою работой.
Ведутен малеры{Видописцы.} - это прохвосты, живущие во всех местах, где едет турист. На Рейне их массы! Все они родственники кельнеров или швейцаров отелей, которые всучивают их картины англичанам, голландцам, русским и другим дурням, любующимся красотами или древними опошленными замками Рейна. Зимой они едут в города. В Дюссельдорфе этого скотства масса и всё плодится, питается и считается художником.
И всем этим господам разве только заборы да гробы красить, а не мерзить наше почтенное дело! Опять скажу, что я это говорю про массу людей, ибо бесспорно есть там и большие таланты, но их очень немного. Менцель - вот их светило! Был человек в Дюссельдорфе по мысли и приёму художник здоровый - это Ретель, тоже мыслитель, но куда выше всех других. Он в моё время сошёл с ума, но фрески его в ратуше Аахена скажут вам, что он был силач по этой части, но, жаль, рано умер!
...
В это время я писал мои эпизоды Крымской войны. Три картины были уже написаны в Париже, но Ахенбах их забраковал, и я принялся снова за эту тяжкую работу с энергией. А как меня ругал подчас отец Андрей, называл азиатом, казаком, свечеедом. Но я терпел, ибо сознавал его силу и правоту советов. ...
Бесила меня тоже легендарная сторона направления германской школы - гномы, видения, рыцарство, тонкогрудые феи вроде Туснельды Пилоти - всё это была лазейка для какого-то непостижимого умствования. А в конце концов это была ужасная каша и безнатурщина, и всё это прикрывалось поэзией, преданием старины. Теперь это послабее, но всё-таки немец без гнома не живёт.
В 1859 году я жил то в Париже, то в Дюссельдорфе, но более в последнем. Причиною тому была любовь к моей будущей жене, и я скоро сделался женихом. Осенью поехал к ней в Веве, в Швейцарию. Конечно, ничего не делал, сидел часами на террасе отеля "Belle vue"{"Прекрасная жизнь" (франц.).}, изучал лунные отражения в озере, а главное - вздыхал и любовался моею Надеждою Павловною. В Висбадене я обвенчался и приехал на житьё в Дюссельдорф. Миловидность моей жены и образование, конечно, увлекли всех моих добрых знакомых. Госпожа Освальд Ахенбах её полюбила душевно, и даже гордячка госпожа Андрей, несмотря на свою глупость, тоже её ласкала. Но не долго я был счастлив! На балу-маскараде Надежда Павловна простудилась, захворала воспалением лёгких, которое и свело её в могилу через 5 лет."
---------
*В 1868 г., когда в России гостили родители цесаревны Марии Фёдоровны король Дании Христиан IX и королева Луиза, Боголюбов, устраивая праздник в Петергофе, использовал сюжеты и декорационные приёмы этой феерии.


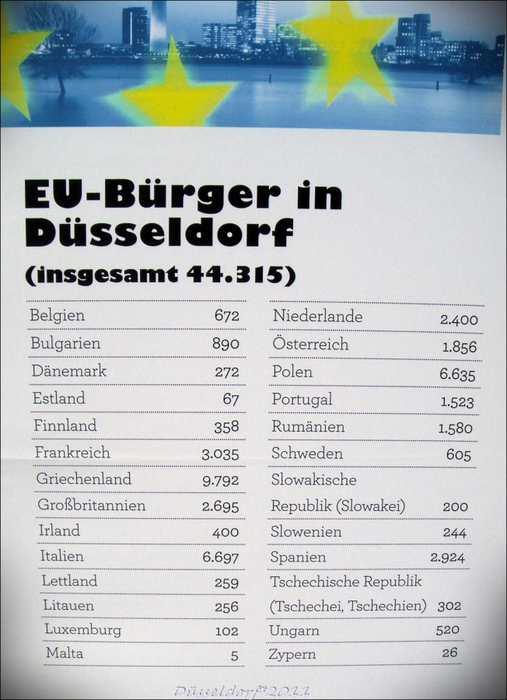

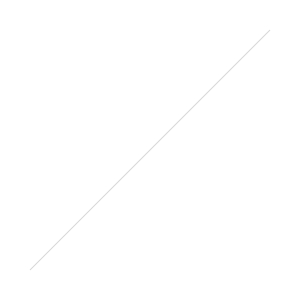



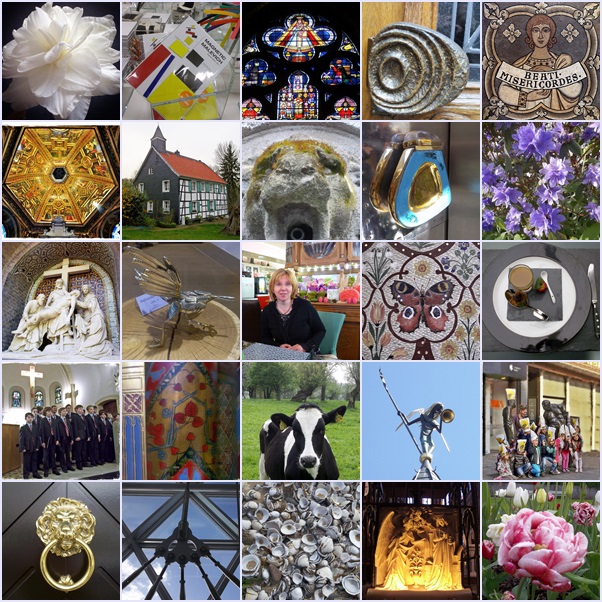

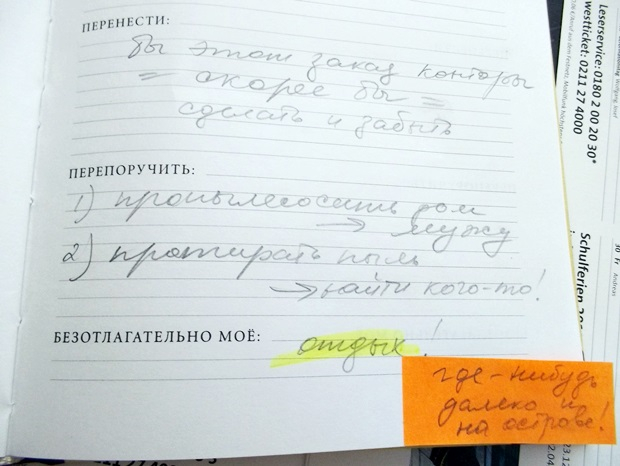



 Перед рестораном в самом начале праздничного вечера в часовенке для нас устроили концерт. Пел хор мальчиков. Религиозного содержания песни. "Аве, Мария", например... Ах, как это трогательно было! Мальчики перед выступлением.
Перед рестораном в самом начале праздничного вечера в часовенке для нас устроили концерт. Пел хор мальчиков. Религиозного содержания песни. "Аве, Мария", например... Ах, как это трогательно было! Мальчики перед выступлением.

 Он большой любитель чёрно-белого в оформлении и всегда так особенно затейливо декорирует "тарелки".
Он большой любитель чёрно-белого в оформлении и всегда так особенно затейливо декорирует "тарелки".










 Так бы ехала и ехала...
Так бы ехала и ехала...































